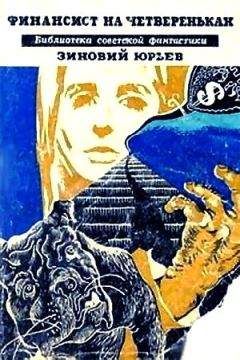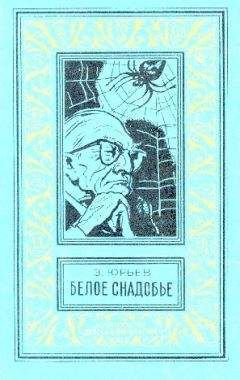Зиновий Юрьев - Рука Кассандры (Сборник с иллюстрациями)
— А может быть, человеку иногда и нужно страдать?
— Ну, доктор, меньше всего я ожидал от вас услышать проповедь христианства!
— Боже упаси, Брайли, я верил в бога ровно до десяти лет. Но вы прекрасно знаете, что я хочу сказать. Человек не может платить за счастье отказом от своего «я». Человек должен думать, понимаете: должен! Даже если мысль — наш крест, мы должны нести его, а не всучивать его с благодарностью первому встречному, кто выражает желание разгрузить наш ум от нерешенных и трудных вопросов. Вы, Брайли, говорите куда красноречивее меня, но вы меня ни в чем не убедили, хотя ваши ответы просты и логичны, а у меня по большей части вообще нет ответов на самые простые вопросы. Счастье! Нужно прежде всего определить, что это такое. Тем более, будем откровенны, пока что наши заказчики в мундирах меньше всего пекутся о всеобщем счастье. Их интересует совсем другое.
— Это уже другой вопрос. К сожалению, у нас в стране это самые богатые меценаты. Но великое открытие нельзя долго прятать в генеральских сейфах. Раньше или позже оно выбирается оттуда. Так было и с атомной энергией, с ракетами, с лазерами и со многим другим. Как, кстати, ваш новый парень?
— Ничего, очень удобен для наблюдений над эмоциональным сдвигом. Он ведь любит мисс Кучел…
— А она была с Фостером. Великолепно! И как он к этому отнесся?
— Спокойно, конечно. Вы можете мне говорить что угодно, но это страшно и тягостно…
— Ну-ну-ну… Или вы предпочитаете классические сцены ревности?
— Может быть, — вздохнул доктор Цукки.
Он поймал себя на том, что хотел рассказать Брайли о трубе, и сдержался. Это было, разумеется, глупо, но ему не хотелось говорить этому человеку о том, что Карсуэлл залез в трубу во второй раз.
СВИДАНИЕ ЗА ЭКРАНОМ
— Здравствуйте, доктор Цукки! — просиял Дэн. — Вы просили меня зайти.
— Добрый день, мистер Карсуэлл, — вздохнул доктор Цукки. — Садитесь.
Дэн с наивным любопытством рассматривал оборудование лаборатории.
— Как у вас тут все интересно! — сказал он.
— М-да… — неопределенно промычал доктор.
С минуту оба они молчали: Дэн — весело улыбаясь, Цукки — погруженный в раздумья.
— Скажите, Карсуэлл, — наконец прервал молчание доктор, — для чего вы полезли в трубу во второй раз? Вы ведь помнили свои ощущения и мысли, когда сидели в ней?
На лице Дэна появилось легкое облачко. Он наморщил лоб, пытаясь собрать веселые ленивые мысли, которые сыто и неторопливо — точь-в-точь стадо коров в жаркий полдень — дремали в его голове. Конечно, он помнил все то, о чем думал в трубе. Но воспоминания казались жалкими, смешными и стыдными, словно воспоминания о детских грешках.
— Я… я не знаю, доктор, — виновато сказал Дэн.
— А еще раз вы хотели бы испытать те же ощущения?
Сытые, дремлющие коровы-мысли в голове Дэна проснулись, встали и негодующе замычали. Они не хотели открывать глаза и сейчас мечтали лишь об одном: снова погрузиться в сладкую дремоту.
— Нет, доктор, — испугался Дэн, — я и близко не подойду к этой трубе!
— Подумайте лучше, — угрюмо настаивал Цукки, — не может быть, чтобы ничто из того, о чем вы думали там и что переживали, не было вам дорого.
Дэн почувствовал, как его захватывает смятение. Он не хотел думать о трубе. Все его существо содрогалось при мысли о ней, и вместе с тем ему страстно хотелось угодить доктору Цукки. Он не принадлежал себе. Его волю тащили в разные стороны. Он вспомнил Фло и боль, которая поглотила его в трубе, вспомнил отчаяние. Почему доктор настаивает, чтобы он испытал этот ужас еще раз? Но ведь этот ужас в тысячу раз естественнее его нынешнего сладкого отупения. Ну и что? Пускай это называется отупением или как угодно, но нет ни сил, ни воли, чтобы добровольно отказаться от него. Ему казалось, что стоило в нем появиться какому-то подобию воли, как теплые волны покоя сильно и нежно смывали ее куда-то вниз.
— Не знаю, доктор Цукки, — робко улыбнулся Дэн, — не могу думать. Вы уж простите меня. — Улыбка на его лице крепла, растекалась, пока не засияла во всем своем бездумном великолепии.
Доктор Цукки, как и всегда в трудные моменты жизни, чувствовал неприятный озноб, какой-то парализующий холодок внутри. Имел ли он право взять этого человека, излучавшего покой и довольство, и своими руками снова ввергнуть в кошмар осознания всего? Если бы он мог выпустить его из лагеря… Это от него не зависело, это абсолютно исключалось. А не пытается ли он подогнать факты под свои собственные убеждения? Может быть, Брайли в конце концов прав? Может быть, люди действительно готовы заплатить за счастье ценой отказа от своего «я»? Но ведь Карсуэлл не может оценивать вещи объективно, находясь в поле радиоизлучения. Ну и что? Он все равно полностью сохранил умственные способности и память. Он может думать, но он не хочет думать, потому что из опыта уже знает, что мысль несет горе. А кто он, Юджин Цукки, чтобы решать за другого, думать ему или не думать?
На мгновение Цукки показалось, что кто-то начинает ковыряться в его, Цукки, мыслях, и острый страх сковал его. Нет, нет и нет! Человек должен быть хозяином своей головы, даже если для этого его нужно взять за загривок, ткнуть носом в его собственные мысли и приказать: «Думай!» Любой контроль над мыслями — это низведение человека до животного или робота. Стоило ли спускаться с деревьев и сотни тысяч лет дрожать при свете костра в промозглых пещерах, гибнуть на дыбах инквизиции и в фашистских крематориях, писать сонеты и создавать теорию относительности, чтобы стать телемарионетками? Счастье — это не критерий цивилизации. А что есть ее цель?
«Не знаю, что ее цель, но то, что я сейчас совершу преступление, — это я знаю. Я же подписал целую гору документов о сохранении тайны. Для чего нужно подвергать себя такому риску? Чтобы переубедить Брайли? Да ему и намекнуть об этом нельзя будет… Подумай, пока еще не поздно. Умерь гордыню и не высовывай нос, он у тебя и так длинный… Но я должен знать, как поведет себя в камере этот человек… Что бы он ни говорил, он полез в трубу во второй раз… Чушь… Теперь не полез бы… А если бы полез? И как всегда, ясного ответа нет… И как всегда, я делаю глупости… Сейчас я сделаю глупость, и будет поздно, и я буду рвать на себе волосы и не буду спать ночами… Но он же человек, он ее любит… Я тоже любил Мэри Энн, и она ушла. Ну и что… Он имеет право любить…»
Цукки поежился от внутреннего холодка и вдруг понял, что уже давно решился. Он выглянул из окна. Никого не было. На всякий случай он задернул зеленоватую занавеску, быстро подошел к запертой двери в стене и отворил ее.