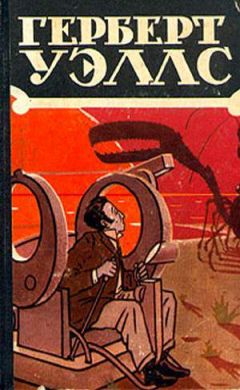Герберт Уэллс - В дни кометы
Об одеждах прошлого времени теперь пишешь с особенной брезгливостью. Костюмы мужчин носились в течение нескольких лет бессменно, подвергаясь лишь поверхностной и случайной чистке не чаще раза в год. Их шили из темных материй неопределенного рисунка, чтобы не так заметна была их изношенность, причем материя была мохнатая и пористая, точно нарочно для того, чтобы лучше пропитываться грязью. Многие женщины носили юбки из такой же материи, и к тому же столь длинные и неудобные, что они волочились по ужасной грязи наших дорог, где постоянно ходили лошади. В Англии у нас гордились тем, что никто не ходил босиком, – правда, ноги у большинства были так безобразны, что обувь была им необходима, но для нас сейчас совсем непонятно, как они могли засовывать свои ноги в эти невообразимые футляры из кожи или из подделок под кожу. Я слышал, что физическое вырождение, явно начавшееся в конце девятнадцатого века, было вызвано не только разными вредными веществами, употреблявшимися в пищу, но происходило также, и в большой мере, от негодной обуви, которую все тогда носили. Люди избегали всяких физических упражнений на открытом воздухе, так как при этом обувь их быстро изнашивалась, жала и натирала ноги. Я упоминал уже о той роли, какую сыграла обувь в моей юношеской любовной драме, и потому я с чувством торжества над побежденным врагом отправлял грузовик за грузовиком дешевых ботинок (непроданные запасы из складов Суотингли) на сожжение около Глэнвильских плавильных печей.
Трах! – И они летели в печь, и пламя с ревом пожирало их. Никогда уже никто не простудится из-за их картонных промокающих подошв, никто не натрет мозолей из-за их дурацкой формы, никогда их гвозди не будут вонзаться в ноги и причинять боль…
Большая часть наших общественных зданий сносилась и сжигалась по мере того, как мы осуществляли наш новый план строительства. Прежние сараи, именовавшиеся у нас театрами, банки, неудобные торговые помещения, конторы (эти в первый же год) и все «бессмысленные копии» псевдоготических церквей и молелен – эту безобразную скорлупу из камня и извести, воздвигавшуюся без любви, фантазии и чувства красоты, которую богачи бросали в виде подачки своему богу, наживаясь на нем так же, как на своих рабочих, которым они затыкали рот дешевой пищей, – все это было снесено с лица земли в течение первого же десятилетия. Затем нам пришлось освободиться от устарелой системы паровых железных дорог с их станциями, семафорами, заграждениями и подвижным составом, от всей этой сети неудачных, громыхающих и дымящих приспособлений, которые при прежних условиях протянули бы, может быть, свое ненужное, чахнущее, вредоносное существование еще с полвека. Затем последовала обильная жатва изгородей, вывесок, щитов для объявлений, безобразных сараев, всего ржавого и погнувшегося железа, всего вымазанного смолой, всех газовых заводов и складов бензина, всех повозок, экипажей и телег – все это подлежало уничтожению…
Перечисленного мною, наверно, достаточно, чтобы дать понятие о величине наших костров, о том, сколько в те годы нам приходилось сжигать, плавить, сколько труда потребовалось на одно дело разрушения, не говоря уже о созидании.
Но это была лишь грубая материальная основа тех костров, которые разгорались во всем мире, из пепла которых предстояло возродиться фениксу. За ними последовали в огонь внешние видимые доказательства бесчисленного множества претензий, прав, договоров, долгов, законодательных постановлений, дел и привилегий, коллекции знаков отличия и мундиров, не настолько интересных или красивых, чтобы их стоило сохранять, пошли на усиление пламени, так же как и все военные символы, орудия и материалы, за исключением некоторых действительно славных трофеев и памятников. Бесчисленные шедевры нашего старого, фальшивого, зачастую продажного изящного искусства постигла та же участь: громадные картины, написанные масляными красками для удовлетворения запросов полуобразованного мелкого буржуа, покрасовавшись одно мгновение в пламени, тоже сгорели. Академические мраморные изваяния превращены были в полезную известь; громадное множество глупых статуй и статуэток, разных фаянсовых изделий, занавесок, вышивок, плохих музыкальных инструментов и нотных тетрадей с Дрянной музыкой постигла та же участь. В костры побросали также много книг и связок газет; из частных домов одного только Суотингли – а я считал его, и не без оснований, вообще неграмотным поселком – мы собрали целую мусорную телегу дешевых, плохо отпечатанных изданий второсортных английских классиков, по большей части очень скучных, никем не читаемых, и целую фуру растрепанных бульварных романов с загнутыми, захватанными углами, скверных и бессодержательных, – свидетельство истинно британской умственной водянки… И, когда мы собирали эти книги и газеты, мне казалось, будто мы сваливаем не просто печатную бумагу, а извращенные и искаженные идеи, заразительные внушения, догматы трусливой покорности и глупого нетерпения, подлые, тупые измышления в защиту сонной лености мысли и робких уверток. При этом я испытывал не просто злорадное удовлетворение, а нечто куда большее.
Повторяю, я был так занят этим делом мусорщика, что не заметил тех слабых признаков перемены в состоянии здоровья матушки, которые иначе не ускользнули бы от моего внимания. Мне даже показалось, что она немного окрепла, на лице появился легкий румянец и она стала разговорчивей…
Накануне праздника Майских костров, когда кончилась наша очистка Лоучестера, я отправился по долине в противоположный конец Суотингли, чтобы помочь рассортировать склады нескольких отдельных гончарен, состоявшие главным образом из каминных украшений и имитаций под мрамор, но отобрать можно было очень немногое. Здесь-то наконец по телефону отыскала меня Анна, ухаживавшая за моей матерью, и сообщила, что матушка внезапно скончалась утром, почти тотчас же после моего ухода.
Я не сразу поверил; это неминуемое событие страшно потрясло меня, как будто я никогда его не предвидел. Я продолжал машинально работать, потом апатично, в каком-то отупении, почти с любопытством направился в Лоучестер.
Когда я прибыл туда, все уже было сделано, и я увидел среди белых цветов бледное лицо моей старушки матери. Выражение его было совершенно спокойное, но несколько холодное, суровое и незнакомое.
Я вошел к ней в тихую комнату один и долго простоял у ее постели. Потом присел и задумался…
Наконец, пораженный странным безмолвием и сознавая, какая бездна одиночества раскрылась передо мной, я вышел из этой комнаты в мир, в деятельный, шумный, счастливый мир, занятый последними радостными приготовлениями к торжественному сожжению мусора прошлого.