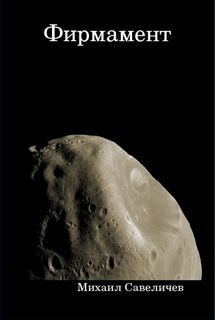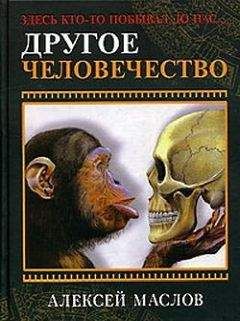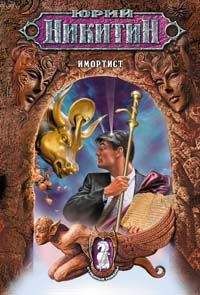Михаил Савеличев - Фирмамент
Малая сила бессильно и обреченно заверещала, от страха утеряв те крохотные, неуверенные паутинки смысла, заполняющие рваное безобразие фонем ровным сиянием симболонов, скатившись в абсолютную скотскость новорожденной инстинктивности, силой пробуждающей в еще живом сердце останки легендарных мелодий доброты, заботы, презрения. Искалеченные тела отпрянули под ударом визгливой трусости и теплой волны непроизвольного сочувствия, но задние ряды напирали, тянулись, жаждали. Когти вновь резали густую пелену воздуха с тонкими фестонами обвисающей плесени, новый визг тонул в гуле проснувшихся утилизаторов, со скворчанием и отрыжкой поглощавших очередные порции плоти. Сверху это походило на упорядоченные, концентрические сжатия тьмы, которые волнами накатывались на неразличимую точку концентрации безумия и трепета, как в перенасыщенном растворе самозарождаются автоколебания плотности, подчиняясь неведомым сигналам космической кристаллизации. Эхо смерти бродило под Крышкой, за тысячелетия человеческого декаданса включившись в метафизический ритм синергетики распада и установив в пространстве пучности и сгущения предельной выраженности зла — адские круги божественной комедии театра марионеток продуманной гениальностью спускались к ледяному пределу Коцит, откуда только и начинался подъем к вершинам рая.
Голем поднял высоко свою жертву, трясущуюся, визжащую, мокрую, испражняющуюся на головы злобных рабов сердца преисподней, как по неслышимой команде над морем корявых голов воспрял лес нетерпеливых рук и механический монстр расхохотался — горловой органчик человеческих мелодий послушно воспроизвел скрипящую запись натужного смеха, пугающий вой оскопленной веселости. Острое лезвие вспыхнувшего огня прошлось по колышущейся поверхности моря, срезая кривые сучья извивающихся конечностей. Тьма и злость наполнились воем, колдовской круг распался, рассеялся в неуловимое мгновение, оставив просачивающиеся в сливные отверстия лужи крови к вящему восторгу крыс и улиток, и отсеченные руки, злобно вцепившиеся в дырчатый пол.
— Очнулись, уроды? — совсем по-человечески осведомился голем и встряхнул продолжающее визжать убожество. — И тебя проинтегрировать? — свет качнулся перед глазами малой силы, и она затихла.
Скоротечная схватка что-то разрушила в размеренном восхождении к высотам блистающего мира великих, и голем оценивающе осмотрел добычу, насколько это было возможно при тусклом сиянии интеграла в запутанной и испачканной хламиде ничтожества. Одутловатое лицо равнодушно взирало на мир, непроницаемо для внешних интроспектив и воспитательного психокодирования, наглухо защищенное ужасом и нереальностью даже не скотского, а просто невозможного существования на другой грани всеобщего бытия. Бледность слезящихся глаз впитала такую пустоту, что страшно было окунаться в подобное отверстие без соответствующей дозы немедленно высосанной крови.
Свет погас, голем вытянул крепежный шнур с разверстыми пастями держателей, на которых в лучшие времена повисали длинные ряды рабов, послушно внимающих болевому шоку и оглушенно бредущих вслед за ржавым сенешалем Бегемота, и бросил его в взвывающую щель утилизатора. С жадным лязганьем срабатывали крепежи, корд натягивался и ослабевал в жадном поиске жмущихся к стальным стенам карликов, вылавливая самых отчаянных перед раскрытой свободой огненной смерти. Под тяжестью нанизываемых рабов ловушка тяжелела, нить выбрасывалась уже не столь быстро и жадно, она приобрела надежную толщину и весомость, прокачивая по крохотным отверстиям смесь вечного смирения и подчинения. Голем перчаткой подцепил ближайшую пустую ловушку, надел на нее малую силу и с силой дернул шнур, собирая к себе взбунтовавшееся племя одичавших в идолопоклонстве брызжущим печам аборигенов. Стройные пары обмякших фигур выстраивались в гипнотической покорности расходимой спирали, внося в сотворенное безобразие долгожданные представления искусственной природы о воздаянии и справедливости. Бандерлоги железных джунглей склоняли головы перед новоявленным Каа, дергаясь в такт закачиваемой смеси в заросшие тромбами сосуды, выпучивая глаза и вываливая языки в дьявольской смешливой старательности выказать весь химизм рабской покорности.
— Допрыгались, бабуины? — проскрипел Каа и сильнее дернул шнур, вгоняя мучительные дозы нового страха. — Забыли Устав и Корабельный Распорядок, уроды? Осатанели в благословенной безнадзорности и доверии Великих? — рваная кисть в истлевшей перчатке указала в сходимую бесконечность верха. — Взор вечности улавливает и крохотное движение вшей в вашем рванье, только забывчивая милость спасает провинившихся. Сейчас я ее исчерпал, — голем вновь расхохотался.
Бабуины и уроды молчали, понимая всю бессмысленность слов в разящей неотвратимости катастрофы. В пространстве все идет не так, безопасные тропки проложены по наихудшим местам гравитационных возвышенностей, и вопрошать возмездие о смысле и милосердии — лишь усугублять мучение распахнутого конца. Гротескные лица и глаза злых карикатур на потомков жертв лучевых ударов в тесноте дешевых куполов, словно созданных для выведения новой презренной расы вечных рабов.
Свистнул кнут, и новые волны боли разошлись от центра к периферии паскалевской улитки. Стон красиво аккомпанировался вымученным танцем огнепоклонников, внезапно прозревших в своем заблуждающем восхищении далеким и тусклым светилом, безликим и испятнанным проказой близкого оледенения, наткнувшись на тайный культ не менее кровавого хтонического идола выжившего осколка мифических веков. Голем натянул корд и закричал:
— Веселитесь, отбросы! Смерть будет немилосердна, но она искупится тем, что вы еще не видели в том кошмаре, обзываемым жизнью. Бремя, доля, рок вот имена пустой жизни, но сейчас в нее будет вплетена нить подлинной судьбы!
Он поднял вверх руку с зажатым хлыстом, и голубой ужас вытянул корд в прямую линию, растянувшись за големом в торжественную процессию обещанной славы. Шарканье ног расплывалось неуловимым ритмом, оставляя позади непривычную тишину глухо стонущих утилизаторов и батареечных отверстий. За арьергардом наступающей в безвестность армии разлился авангард животной стаи, почуявшей застоявшиеся лужи крови и куски иссохшей плоти. Черный шевелящийся ковер залил пол, проступая сквозь дырчатые плиты дренажа липкими фонтанами глазастой, слизистой, клешнястой нечисти еще одного адского кружка для эволюционного бреда галлюцинирующего творца.
Сокровенная щель корабельной архитектуры древнего толкача завершалась непроходимой складкой — метки встречи с небесным камнем, разворотившим нечто бесполезное в юдоли вечного странствия, и теперь коридор опадал странными полосами неловких заплаток и кривых крепежей с гроздьями сверкающих точек радиоактивной стали. Шум движения разбавился писком персональных дозиметров — единственной персональной вещи злобного издевательства над самой идеей разума и человечности — и инстинктивный страх напружинил покорную стихию, замедлил ход, генерируя новые и новые тычки болевой плетки, искупая страх отчаянным хором жуткого воя. Но голема препятствие не смущало. Привычно укладываясь в неэвклидовую логику экономной организации обитаемых полостей стандартного толкача, он подтянул поближе бессмысленно верещащую малую силу в сцепке с карликом-клоном, схватил их за космы и шагнул на невероятную высоту вздымающейся к свету стены.