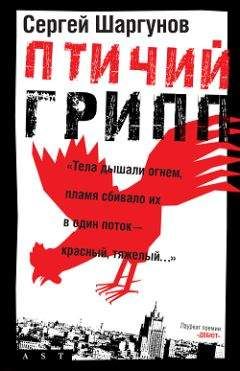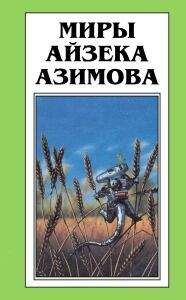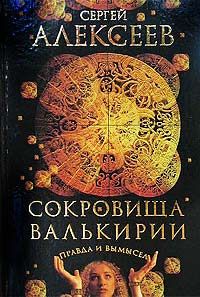Сергей Алексеев - Птичий путь
– Повинуюсь року, – усмехнулся он, направляясь к двери черного хода.
У Сколота было ощущение, будто он опять попал в ловушку, еще более коварную, чем магнитный вихрь на Мауре. Если там вводила в заблуждение измененная оптика атмосферы, нарушающая ориентацию в пространстве, то здесь все было реально, открыто, доступно – иди куда хочешь, делай что хочешь, и все равно не вырвешься из замкнутого круга. Ему ничего не оставалось, как где-нибудь затаиться, залечь и ждать Стратига, который должен был проявиться, обозначиться, причем самым неожиданным образом. Вряд ли вершитель судеб меняет свое местопребывание и привычки: музей Забытых Вещей с давних пор был резиденцией Стратигов, и помнится, об этом говорила еще Дара с вишневыми глазами, что исполняла урок помощницы отца. И место на берегу Волхова выбрали не случайно, на самом оживленном Перекрестке Путей, который никому не миновать, в какую бы сторону ты ни шел – из варяг в греки или по соляной тропе, с востока на запад. В связи с этим у Сколота была тайная надежда на случайную встречу с кем-то из знакомых странников или вовсе близких ему, например Авег, которые носили соль в исток реки Ура. За одиннадцать лет учебы эти вечно странствующие старцы стали родными, и каждый из них мог бы поручиться за него и сказать веское слово Стратигу, который и сам вкушал соль из их рук.
И еще оставалась призрачная надежда – вдруг здесь опять появится Белая Ящерица?..
Весь остаток дня он бродил по парку, приглядывая себе место для засады где-нибудь поблизости от здания музея, чтобы держать под наблюдением вход. Парадная двустворчатая дверь от реки не открывалась, пожалуй, те же полвека, судя по закрашенным гайкам, была завинчена на болты, в щелях гранитных плит ступеней красного крыльца росла трава, а на подъездных дорожках, по коим некогда катались барские коляски, цвели неухоженные клумбы. И вообще весь парадный фасад, обращенный к реке, был забыт, запущен, возможно умышленно, дабы подчеркнуть символическое предназначение музея: взглянуть на забытые вещи можно было, проникнув через черный ход…
Он и здесь помнил правило – хорошо что-либо спрятать можно, только выставив на глаза, и после тщательного осмотра облюбовал глубокую застреху в левой части портала, глухое пространство под каменным козырьком, над которым возвышалась обсиженная голубями скульптура. Полуобнаженный атлет в одной руке держал рукоятку меча, а другой поддерживал картуш, где когда-то был изображен родовой дворянский герб, ныне разбитый и закрашенный до неузнаваемости. Видимо, справа стоял такой же, симметричный воин, но от него остались лишь ноги с напряженными икроножными мышцами. Конечно, черного хода в музей отсюда не увидеть, зато, если освободить от птичьего помета плечи уцелевшего атлета и встать на них, можно спокойно заглянуть в окно третьего этажа, по расчетам – в каминный зал, где теперь стояла мебель, требующая реставрации…
Впрочем, если раздеться по пояс, измазаться побелкой, то можно стоять открыто, заменив собой несуществующего атлета – никто не обратит внимания, ибо парадный фасад хорошо видно лишь с воды; с кромки же берега ничего не разглядеть из-за высокой травы и кустарника. Ночные сторожа сюда не заходили, полагая, что со стороны реки защищены водной преградой, туристы изредка забегали справить малую нужду, поэтому запах был соответствующий.
Забраться на портал тоже не составляло особого труда, используя прием скалолазов: на одну колонну опереться ногами, на другую – спиной, и подниматься, как по узкой расщелине.
Сесть в засаду Сколот решил после полуночи, когда сторож запрется в музее, поэтому еще вечером набрал в реке бутыль воды, нарвал охапку травы для гнезда под застрехой и приготовил капроновый шнур, чтобы все это поднять наверх. Однако уже в сумерках, когда прогуливался по центральной аллее музейного парка в компании мамаш с детьми и колясочников из близлежащего дома престарелых, он вдруг чуть не столкнулся с переодетой экскурсоводшей. Вместо служебного строгого костюмчика она была в модных рваных джинсах, короткой маечке и с какой-то вспененной прической.
– Вы всё еще здесь? – Нудный, свербящий тон в ее голосе остался прежним. – Прошу покинуть территорию музея.
Сейчас им никто не мешал, и чужих ушей близко не было.
– Послушай, Дара… Я понимаю, у тебя урок, наказы, обязательства. Но ты же Дара!
– Какая я вам Дара? – Бледноватое лицо ее вспыхнуло. – Меня зовут Марина Сергеевна. Вы меня с кем-то путаете! И вообще все время несете какую-то чушь! Вы что, больной?
Научному руководителю было лет двадцать пять, но гонору – на все пятьдесят. И даже на миг возникло сомнение – не потерял ли чутье, не ошибся ли, как было с Роксаной?..
– Значит, ты мне не поверила? А сама все это время пробыла в зале зеркал. И пыталась считать информацию. Поэтому и припозднилась…
– Да, пыталась, – неожиданно призналась она. – Но какое ваше дело?
– Предложение остается в силе. Могу научить. Кстати, знаешь, почему их принято занавешивать, если в доме умирает человек?
– Не знаю и знать не хочу!
– Я и так тебе скажу. Отлетевшая душа принимает свет зеркала за окно. И начинает биться, как птица о стекло. Потому что вылетает из тела еще незрячей. На девятый день только глаза открываются, как у новорожденных щенков…
Сколот увидел тщательно скрываемое под неприступностью, трепетное, разжигающее желание, сквозившее из подозрительно прищуренных глаз. Еще бы миг – и женское любопытство перебороло долг, она бы раскрылась, но тут на центральную аллею вынесло сторожа, который выпроваживал мамаш и инвалидов-колясочников, чтобы повесить замок на калитку. Один раз он уже чуть не сдал Сколота в милицию, когда обнаружил его спящим на крылечке сарайчика возле пасеки, – спасли длинные ноги; попадаться на глаза во второй раз, тем паче когда готово место для засады, было опасно. Экскурсоводше тоже не хотелось привлекать к себе внимание, и она целеустремленно направилась к воротам парка.
– Приду завтра! – полушепотом пообещал Сколот. – И если не пропадет желание, мы ночью пойдем в зал зеркал. Не побоишься?
– Я ничего не боюсь! – расхрабрилась она.
– Между прочим, Стратиг отнял у меня пояс сколота, – намекнул он. – Теперь ничто не сдерживает земных страстей. А я к тому же обрастаю шерстью…
– Вызову милицию! – на ходу бросила она. – Заявлю: в музее завелся волосатый маньяк!
Обычно этот сторож к полуночи обходил территорию, потом выпускал кавказскую овчарку и ложился спать в гардеробной, сразу у черного хода. С собакой поладить было легче: старый пес плохо видел, слышал и ничего уже не чуял, пугая лишь своим грозным видом и беспричинным, внезапным лаем для острастки. Охрана в музее содержалась скорее для показухи, чтобы не вызывать лишних подозрений; настоящей стражницей тут была престарелая Валга, что жила теперь в чердачной летней комнате флигеля. Это она привела в исполнение приговор вершителя судеб, нарядила Сколота в смирительную рубашку, выбила память дорог – способность к ориентации в пространстве – и свела потом на вокзал. Иногда днем она вязала на спицах у черного хода музея, являясь как бы олицетворением одной забытой вещи – добродушной, домашней бабушки-сказочницы, возле которой все время крутились дети, оставляемые родителями на время экскурсии, или подменяла захворавших смотрительниц. Чаще сидела в зале времени, где были разнокалиберные старинные часы.