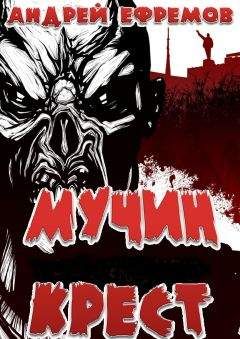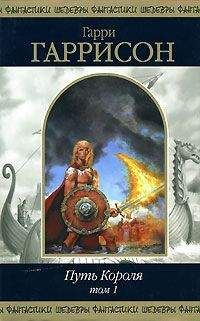Юлия Остапенко - Жажда снящих (Сборник)
– Почему ты так не любишь эту песню?
– Она у меня уже в печёнках сидит!
– Мне кажется, очень подходит.
– Иди ты…
Она заливается грудным смехом, очень сексуальным. Первое время мне даже нравился этот смех. Разговоры у нас всегда одни и те же: из года в год. Почти ритуал: ничего не меняется. Наверное, это бесит меня больше всего. Всё ещё. До сих пор.
Нерина отдаёт таз служанке, розовощёкой дурнушке с пухлыми губками и бородавкой над бровью (порой изобретательность моей девочки просто умилительна!), снова садится рядом со мной, скрывшись в тени балдахина, берёт мою руку тонкими холодными пальцами. Они всегда остаются холодными. Мне кажется, это та малая толика правды, которую она не может спрятать даже от себя.
– Рэндал, ну зачем ты?
– Что – зачем я? Что – зачем?
– Зачем ты уходишь?
– Я всегда уходил. И всегда буду.
– Зачем, зачем? – она уже почти плачет.
В такие минуты мне её немного жаль. Но это только потому, что, пока кровь не заструится по сосудам в привычном объёме, на злость просто нет сил.
– Ну что такого есть там? Что из того, что не могу дать тебе я?
Это тоже часть ритуала. Я давно ответил ей на этот вопрос, и давно понял, что ответа она просто не слышит. Он выпадает из её сознания, из её памяти – он вне сферы её восприятия. И это, наверное, тоже можно понять. Я стараюсь…
Гвиневер? Да нет, я уже почти не думаю о ней. Как не думаю о земле, которую считал своей родиной. Вспоминается почему-то колодец во дворе дома, где я вырос. В детстве я любил спускаться в него днём, забравшись в кадку (младший брат всегда стоял наготове и вытаскивал меня по первому крику). Говорят, днём из колодца видны звёзды.
Я когда-то попробовал рассказать об этом Нерине. Она ужасно растрогалась и долго плакала. А я после этого не мог вспоминать о том колодце без отвращения. Странно, что я раньше не понимал, какая всё это глупость.
Знать бы, что надо вспоминать. К чему надо хотеть вернуться.
– Я же даю тебе то, что никто никогда не даст, – шепчет она, прижимая мои пальцы к своей щеке. – Вечную молодость, вечную жизнь… Ты бы уже давно умер в том… в том мире.
– Я и так давно умер, – отвечаю я и, отняв руку, отворачиваюсь к стене. Нерина вздыхает (слёзы сегодня будут? нет? из года в год она становится всё плаксивее), сидит ещё немного, несмело гладит меня по голове, поднимается. Вот сейчас скажет… сейчас…
– Ничего. Когда-нибудь ты привыкнешь.
Всё. Ритуал завершён. Теперь она даст мне выспаться. Эти вечно безуспешные попытки побега отнимают чертовски много сил. Интересно, жаль ли ей меня хоть немного? Или ей на самом деле нравится наблюдать, как я тупоголовой мухой бьюсь о стекло, не замечая непреодолимой преграды? Она умеет черпать в этом одной ей ведомое наслаждение? Почему-то мне с трудом в это верится. Мне кажется, она была бы по-настоящему счастлива, если бы я просто любил её, как она того хочет. Она ведь пыталась показать мне настоящую себя. Просто не учла, что нет человека, способного выдержать это и не сойти с ума.
Нерина не уходит; я слышу её дыхание. Вот ведь дрянь, отошла и села в углу, думает, что я не замечу. Ну ладно, к чёрту. Хотя я всё равно не могу заснуть в её присутствии, особенно если она сидит у меня за спиной, глядя мне в затылок глазами птичек-сестричек, улыбаясь их сладкой безжалостной улыбкой. И мне остаётся только лежать, и смотреть в стену, и вспоминать, как давным-давно она пыталась открыть мне часть той правды, которой смертный вынести не может.
А ведь я сам упросил её. Меня снедало болезненное любопытство: хотелось знать, как она выглядит, как выглядит место, которое она называла моим новым домом и которое на самом деле было моей тюрьмой, кто приходит к ней вечерами, когда она закрывает восточную часть замка, и оттуда до утра доносится странная, очень медленная музыка, словно идущая из-под земли… Она отпиралась долго, ломаясь и жеманясь, хотя я видел, что её ужасно взволновала эта идея. До сих пор не понимаю, как можно прожить без малого две тысячи лет и быть такой наивной. Впрочем, это, наверное, моя вина. Не знаю, почему, но Нерина вообразила, будто я в самом деле люблю её. А я понял это слишком поздно. Ведь не могла же она принять за изъявление нежных чувств яростную страсть, с которой проходили наши первые ночи?.. Как оказалось, могла. Глупо было с моей стороны не понимать этого: почти любая женщина воспринимает секс как форму объяснения в любви. И почти любой мужчина слишком эгоистичен, чтобы раскрыть ей глаза раньше времени.
Нерина сказала, что устроит бал в мою честь. Это звучало очень торжественно, подготовка была соответствующей. Суматоха, которую она подняла вокруг этого события, меня раздражала: не слишком приятно быть представленным высоким гостям в качестве новой любимой собачки. Впрочем, когда всё началось, мне было не до того.
Я помню, как вошёл в зал, но не помню, как спбла пелена. Я словно пропустил момент, когда Нерина сняла иллюзию и меня опрокинуло в чадящий котёл тошнотворного смрада, выплеснувшего мне в лицо реальность, о которой я успел забыть. Я увидел осыпавшиеся стены давно разрушенной крепости, изломанную прогнившую мебель, изъеденные молью портьеры, блеклые синие свечи в канделябрах из человеческих костей. Услышал запах затхлости, разложения – такой доносится из разрытой могилы. Увидел её слуг, гостей…
Увидел её саму.
К рассвету на моей голове не осталось ни одного тёмного волоска. Нерина тут же исправила ситуацию, и сейчас, глядя в зеркало (которое, я знаю, на самом деле затянуто паутиной и заляпано мушиным помётом), я вижу человека, которому не дашь больше тридцати лет – если не заглядывать в глаза. У этого человека чёрные волосы. Я уже давно отвык считать его своим отражением.
Мы никогда не говорили о той ночи. Мне было проще считать её дурным сном. Вполне вероятно, она и была сном – ведь уже на следующий день вокруг меня снова оказались светлые стены, изящная меблировка, а рядом – под боком, под моей рукой – Нерина собственной персоной, свежая, душистая, прекрасная… Да только я так и не смог отделаться от чувства, что, обнимая её, на самом деле обнимаю отлично загримированный набальзамированный труп. Думаю, она это понимала. И ненавидела себя за неосмотрительную, романтичную глупость, толкнувшую её на этот опрометчивый шаг. Она хотела, чтобы я любил её такой, какая она есть. И думала, что я смогу это принять. Вот к чему приводит столь ожесточённое затворничество. Бедняжка совершенно не знает людей.
Я стараюсь дышать ровно: возможно, мне удастся убедить её, что я сплю. И в самом деле, Нерина встаёт, слишком громко шурша юбками, испуганно замирает. Я дышу ровно и глубоко – мне хочется, чтобы она поскорее ушла. Она попадается на уловку и неслышно выходит. Дверь не запирает. Зачем? Ей нет нужды применять силу. Заклятье удерживает меня надёжнее любых замков. Сколько уже раз я спрашивал её, как она додумалась до такого, а она только улыбается. Иногда говорит что-то бесстыдно-кокетливое вроде «Ты не сможешь жить без меня». Однажды я ударил её, когда она это сказала. Сильно ударил – она отлетела чуть не к противоположной стене. Был период, когда я пытался превратить её жизнь в ад, но чем можно вывести из себя существо, живущее две тысячи лет? Она только улыбается, мочит розги в растворе крапивы и сечёт ими иллюзию горничных, а иногда – меня (так хочется добавить: иллюзию меня). И нет из этого выхода – круг начинается и замыкается её улыбкой. «Ты не сможешь жить без меня».