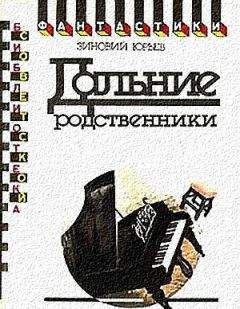Зиновий Юрьев - Бета Семь при ближайшем рассмотрении
Господи, неужели же было невероятное время, когда они были экипажем «Сызрани», когда корабль спокойно буравил космическое пространство, когда Коля и Саша играли в свои бесконечные шахматы под ритуальные заклинания? Пешки не орешки… Вот тебе и пешки, вот тебе и орешки. Да что говорить о родной «Сызрани»! Даже круглая ловушка с мертвенно светящимися стенами уже казалась ему невыразимо прекрасной. Конечно, это была ловушка, но они были вместе, они были живы, а раз они были вместе и были живы, ничего не было потеряно; их оптимизм, как бы он ни был перегружен обстоятельствами, держался на плаву: можно было надеяться.
Он посмотрел на товарищей. Тяжкое, свинцовое отчаяние прессом лежало на сердце. Понтон оптимизма больше не поддерживал его на поверхности. Он перевернулся и затонул. Не было ни надежды, ни веры, ни опоры. Было лишь отчаяние, которое все уплотнялось, тяжелело, холодело. Даже страх оно выдавливало из него.
Он подумал, что, если бы «Сызрань» потерпела настоящую катастрофу, если бы ее прошил какой-нибудь осколочек, они бы не мучались. Они бы даже не успели понять, что произошло. Они бы даже не знали, что умерли и что их корабль превратился в вечный замороженный саркофаг…
Но смотреть на то, что осталось от командира и Сашки, видеть их противоестественно пустые глаза, слышать их жалобное мычание…
Утренний Ветер спрашивал его о смысле существования. Нашел кого спрашивать. Кого и когда.
Он встал и отошел. Он. не мог больше смотреть на товарищей, видеть печальные взгляды дефов. Он вышел из лагеря. Куда угодно идти, только не быть здесь.
Он медленно брел среди развалин, один под чужим желтым небом. Он физически ощущал свою бесконечную малость, свою беспомощность, никчемность. Можно было в тысячный раз проклинать судьбу, но кому до него и до его товарищей дело? Печальным дефам, думающим среди этих камней о смысле жизни? Ходячим железным манекенам среди однообразных бараков города? Этому нарывному небу?
Впервые в жизни он понял, что такое самоубийство. Он никогда не мог понять, как кто-то лишает себя жизни, сам, своими руками сталкивает себя в бездонную пропасть. Это казалось противоестественным. Самоубийство могло быть решением только больного, смятенного ума. Так думал он всегда, но теперь он вдруг остро почувствовал, что смерть может быть желанна.
Да, самому шагнуть в никуда страшно. Но еще страшнее представить себе медленную голодную агонию товарищей, которые даже не смогут понять, от чего умирают, которые даже не будут понимать, что умирают. И он ничего не сможет сделать. Он – крохотная элементарная частичка, движущаяся по какой-то дьявольской траектории, не знающая, кто или что запустило его на нее, зато знающая, что оборотов осталось немного.
Ему было тяжело. Тяжело даже всасывать в себя реденький воздух, который, казалось, не хотел иметь с ним дело.
Он не заметил, как оказался подле стены, которая показалась ему знакомой. А, да, он же уже пролезал через этот пролом, когда спускался на фабрику трехруких кукол.
У входа на плоском камне сидела все та же ящерица и смотрела на него маленькими блестящими глазками. Внезапно она подпрыгнула, на долю мгновения повисла в воздухе, сверкнула острыми зубами и шмякнулась точно на то место, где сидела. «Ей хорошо, – подумал Густов. Она не обременена памятью, и ее не мучают мысли о будущем. Подлинное дитя природы, которое вовсе не планировало появление разума, осознающего себя, а стало быть, и все горе, несчастья и опасности, которые обкладывают этот разум со всех сторон, чтобы побыстрее погасить нелепую, противоестественную искорку. Был бы он ящерицей, все было бы проще. Сиди себе на камне и добывай пропитание».
– Прыгаешь? – спросил Густов, чтобы услышать хотя бы свой голос.
Ящерица внимательно посмотрела на него, и ему показалось, что она коротко кивнула. Он машинально направился ко входу в туннель. Как и в прошлый раз, в стенах вспыхнул свет.
Он прошел знакомой уже дорогой. А вот и куклы под прозрачными крышками. И эти тоже смотрят на него пустыми глазами. Все смотрят на него пустыми глазами. Весь мир смотрит на него пустыми глазами.
– Ну, что? – спросил он куклу, но она не ответила. Ее лицо с вытянутым клювом, узкой щелью рта и четырьмя глазами было исполнено вечного спокойствия.
«В чем-то ей можно позавидовать», – подумал он. Он, впрочем, уже завидует всем, от прыгающей на камне ящерицы до кукол под прозрачными крышками. По пищеводу подымалось едкое, как изжога, раздражение. Раздражение вызывал этот нелепый склад, эти нераспроданные игрушки. Ему было не до игрушек. Он сам был дурацкой игрушкой в чьих-то дурацких руках. Игрушкой для страшных игр. Он качнул саркофаг, висевший в воздухе без видимой опоры. «Интересно, – зачем-то подумал он, – что его поддерживает? Какое-то силовое поле? Но что создает его? «
Он сделал несколько шагов вдоль висевших один за другим контейнеров. А вот и последний. Он легонько толкнул его, и контейнер послушно скользнул вдоль стены туннеля, бесшумно проплыл несколько метров и резко остановился, словно уперся в невидимую преграду.
Только что он думал, что ему не до игрушек. Конечно, ему не до игрушек, но хоть на несколько минут они отвлекли его от тяжких мыслей. Спасибо и за это, уродцы.
– Давай обратно, трехрукий, – сказал он.
Был Густов человеком по натуре аккуратным, и если контейнерам с куклами полагалось быть вместе, пусть будут вместе.
Он подтолкнул саркофаг, но тот, казалось, заклинился. Он нажал посильнее, и контейнер сдвинулся, опять скользнул легко. «Защелка в этом месте, что ли, такая – фиксатор?» – подумал Густов, старательно оберегая искорку любопытства. Что угодно, только не оставаться опять наедине со страшными мыслями. Он толкнул контейнер назад, и тот снова остановился в том же месте.
Сейчас только Густов заметил какой-то металлический выступ в стене. Именно под ним контейнер и фиксировался.
«Странное какое-то устройство», – подумал Густов, рассматривая выступ. Рядом с ним виднелась кнопка.
Когда человек доведен до отчаяния, мысль его уже работает по каким-то особым правилам. Он смотрел на кнопку с напряженным вниманием, как будто этот плоский кружочек на подземной фабрике игрушек мог сыграть в его жизни какую-то роль. Не мог, конечно. Но все равно он смотрел и смотрел на кнопку, словно завороженный. Так давно он не делал ничего по своей воле, так своевольно и сурово несла его судьба в неведомом направлении, что кнопка, которую он мог нажать, а мог и не нажимать, приобретала в его подсознании некую мистическую значимость. Как будто она могла превратить его из беспомощного пассажира, мчащегося в водоворот плота, в рулевого.