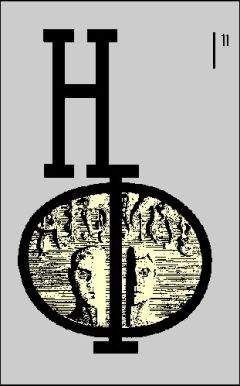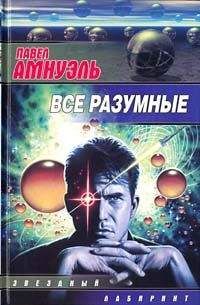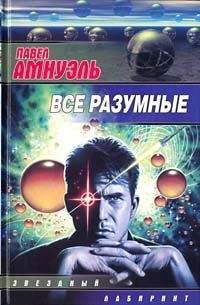Том Годвин - Вирус бессмертия (сборник)
— Что, опять?
— Да.
— Глупости.
— Конечно, глупости.
— Ты же всегда смеешься над метафизикой, астрологией и прочей хиромантией…
— Тут совсем другое дело, тут генетика.
— Ты весь отпуск себе испортишь. — Она подавала мне кусок торта и подливала еще кофе. — Впервые за много лет мы путешествуем без кучи пьес и романов в багаже. И вот тебе, сегодня утром в Голуэе ты все время оглядывался через плечо, точно она трусила следом за нами со своим слюнявым чадом.
— Нет, в самом деле?
— Как будто ты не знаешь! Генетика, говоришь? Прекрасно. Это и впрямь та женщина, которая просила подаяние у отеля пятнадцать лет назад, она самая, да только у нее дома дюжина детей. Мал мала меньше, и все друг на друга похожи, словно горошины. Есть такие семьи, плодятся без остановки. Гурьба мальчишек, все в отца, или сплошная цепочка близнецов — вылитая мать. Спору нет, этот младенец похож на виденного нами много лет назад, но ведь и ты похож на своего брата, верно? А между вами разница двенадцать лет.
— Говори, говори, — просил я. — Мне уже легче.
Но это была неправда.
Я выходил из отеля и прочесывал улицы Дублина.
Я искал, хотя сам себе не признался бы в этом.
От Тринити-колледж вверх по О'Коннелл-стрит, потом в сторону парка Стивенс-Грин, я делал вид, будто меня интересует архитектура, но втайне все высматривал ее с ее жуткой ношей…
Кто только не хватал меня за полу: банджоисты, чечеточники и псалмопевцы, журчащие тенора и бархатные баритоны, вспоминающие утраченную любовь или водружающие каменную плиту на могиле матери, но мне никак не удавалось выследить свою добычу.
В конце концов я обратился к швейцару отеля «Ройял Иберниен».
— Майк, — сказал я.
— Слушаю, сэр.
— Эта женщина, которая обычно торчит здесь у подъезда…
— С ребенком на руках?
— Ты ее знаешь?
— Еще бы мне ее не знать! Да мне тридцати не было, когда она начала отравлять мне жизнь, а теперь вот глядите, седой уже!
— Неужели она столько лет просит подаяние?
— Столько, и еще столько, и еще полстолько!
— А как ее звать?
— Молли, надо думать. Макгиллахи по фамилии, кажется. Точно. Макгиллахи. Простите, сэр, а вам для чего?
— Ты когда-нибудь смотрел на ее ребенка, Майк?
Он поморщился, как от дурного запаха.
— Уже много лет не смотрю. Эти нищенки, сэр, они до того своих детей запускают, чистая чума. Не подотрут, не умоют, новой латки не положат. Ведь если ребенок будет ухоженный, много ли тебе подадут? У них своя погудка: чем больше вони, тем лучше.
— Возможно, и все же, Майк, неужели ты ни разу не присматривался к младенцу?
— Эстетика моя страсть, сэр, поэтому я частенько отвожу глаза в сторону. Простите мне, сэр, мою слепоту, ничем не могу помочь.
— Охотно прощаю, Майк. — Я дал ему два шиллинга. — Кстати, когда ты видел их в последний раз?
— В самом деле, когда? А ведь знаете, сэр… — Он посчитал по пальцам и посмотрел на меня. — Десять дней, они уже десять дней здесь не показываются! Неслыханное дело. Десять дней!
— Десять дней, — повторил я и посчитал про себя. — Выходит, их не было здесь с тех пор, как появился я.
— Уж не хотите ли вы сказать, сэр?..
— Хочу, Майк, хочу.
Я спустился по ступенькам, спрашивая себя, что именно я хотел сказать.
Она явно избегала встречи со мной.
Я начисто исключил мысль о том, что она или ее младенец могли захворать.
Наша встреча перед отелем и сноп искр, когда взгляд малютки скрестился с моим взглядом, напугали ее, и она бежала, словно лисица. Бежала невесть куда, в другой район, в другой город.
Я чувствовал, что она избегает меня. И пусть она была лисицей, зато я с каждым днем становился все более искусной охотничьей собакой.
Я выходил на прогулку раньше обычного, позже обычного, забирался в самые неожиданные места. Соскочу с автобуса в Болсбридже и брожу там в тумане. Или доеду на такси до Килкока и рыскаю по пивным. Я даже преклонял колено в церкви пастора Свифта и слушал раскаты его гуигнмоподобного голоса, тотчас настораживаясь при звуке детского плача.
Сумасшедшая идея, безрассудное преследование… Но я не мог остановиться, продолжал расчесывать зудящую болячку.
* * *И вот поразительная, немыслимая случайность: поздно вечером, в проливной дождь, когда все водостоки бурлят и поля вашей шляпы обвиты сплошной завесой, миллион капель в секунду, когда не идешь — плывешь…
Я только что вышел из кинотеатра, где смотрел картину тридцатых годов. Жуя шоколадку «Кедбери», я завернул за угол…
И тут эта женщина ткнула мне под нос своего отпрыска и затянула привычное:
— Если у вас есть хоть капля жалости…
Она осеклась, развернулась кругом и побежала.
Потому что в одну секунду все поняла. И ребенок у нее на руках малютка с возбужденным личиком и яркими, блестящими глазами, тоже все понял. Казалось, оба испуганно вскрикнули.
Боже мой, как эта женщина бежала!
Представляете себе, она уже целый квартал отмерила, прежде чем я опомнился и закричал:
— Держи вора!
Я не мог придумать ничего лучшего. Ребенок был тайной, которая не давала мне житья, а женщина бежала, унося тайну с собой. Чем не вор!
И я помчался вдогонку за ней, крича:
— Стой! Помогите! Эй, вы!
Нас разделяло метров сто, мы бежали так целый километр, через мосты над Лиффи, вверх по Графтэн-стрит, и вот уже Стивенс-Грин. И ни души…
Испарилась.
«Если только, — лихорадочно соображал я, рыская глазами во все стороны, — если только она не юркнула в пивную «Четыре провинции»…»
Я вошел в пивную.
Так и есть.
Я тихо прикрыл за собой дверь.
Вот она, около стойки. Сама опрокинула кружку портера и дала малютке стопочку джина. Хорошая приправа к грудному молоку…
Я подождал, пока унялось сердце, подошел к стойке и заказал:
— Рюмку «Джон Джемисон», пожалуйста.
Услышав мой голос, ребенок вздрогнул, поперхнулся джином и закашлялся.
Женщина повернула его и постучала по спине. Багровое лицо обратилось ко мне, я смотрел на зажмуренные глаза и широко разинутый ротик. Наконец судорожный кашель прошел, щеки его посветлели, и тогда я сказал:
— Послушай, малец.
Наступила мертвая тишина. Вся пивная ждала.
— Ты забыл побриться, — сказал я.
Младенец забился на руках у матери, издавая странный, жалобный писк.
Я успокоил его:
— Не бойся, я не полицейский.
Женщина расслабилась, как будто кости ее вдруг превратились в кисель.
— Спусти меня на пол, — сказал младенец.