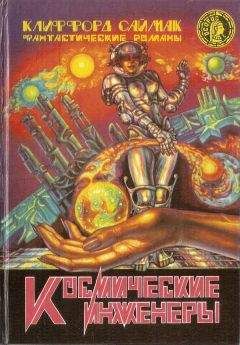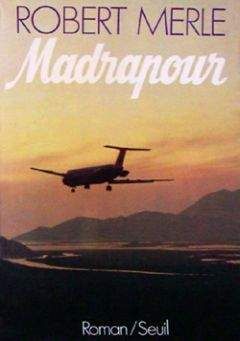Урсула Ле Гуин - Инженеры Кольца
Мы начали подниматься в горы. Благодатный снег и кроксет, то есть безветреная погода при умеренных минусовых температурах, которые сопутствовали нам в дороге через лес Тарренпет и помогали нам поскорее выбраться за пределы возможной погони, теперь уступили место отвратительной температуре выше нуля и дождю.
Я начал понимать, почему гетенцы недовольны, когда зимой температура повышается, и радуются, если она падает. В городе дождь — неприятность, в путешествии дождь — несчастье. Всю первую половину дня мы втаскивали санки по склону Сембенсьена, под ногами у нас было месиво, ледяная каша из мокрого снега. После полудня на более отвесных склонах снега уже почти не осталось. Зато остались непрекращающиеся потоки дождя, километры грязи и щебня. Мы сняли с санок полозья, поставили колеса и шли дальше. Санки в качестве повозки могли довести до отчаяния, они ежеминутно застревали между камнями либо переворачивались. Сумерки наступили раньше, чем нам удалось найти подходящее для стоянки, укрытое от дождя и ветра место под скалой или какую-нибудь пещеру. Несмотря на все наши ухищрения, все было мокрым. Эстравен уже как-то говорил о том, что такая палатка, как наша, обеспечит нам удобное укрытие при любой погоде, при одном условии — что она будет сухой внутри.
— С того момента, когда промокнут спальники, организмом спящего будет расходоваться слишком много тепла, и поэтому тогда человек за ночь не высыпается и не отдыхает как следует. При наших скромных дневных рационах мы не можем себе этого позволить. Поскольку мы не можем рассчитывать на то, что нам удастся высушить их на солнце, нам ни в коем случае нельзя допустить, чтобы они промокли.
Я внимательно слушал его и пытался так же педантично, как он, следить за тем, чтобы внутрь палатки не попадали вода и снег. В палатке была только та влага, от которой невозможно избавиться, — пар от приготовления пищи и влага, испаряемая нашими телами. Но в этот вечер промокло все, прежде чем нам удалось поставить палатку. Мы потоптались у печурки в клубах пара, и вскоре у нас был готов густой суп из мяса пестри, горячий и питательный, почти компенсирующий всякую иную пищу. Счетчик на санках, игнорируя наши мучительные усилия, когда мы карабкались вверх по склону на протяжении целого дня, показал, что мы прошли сегодня только тринадцать километров.
— Первый день, когда мы не выполнили нашей ежедневной нормы, — сказал я.
Эстравен кивнул в ответ и ловким движением расколол берцовую кость пестри, чтобы достать из нее костный мозг. Он сбросил мокрую верхнюю одежду и сидел сейчас только в рубашке и брюках, босиком, расстегнув ворот рубашки. Мне же по-прежнему было холодно, слишком холодно, чтобы я мог снять плащ, хиеб и сапоги, а он сидел, раскалывая мозговые кости, — аккуратный, опрятный, непреклонный, неподдающийся никаким обстоятельствам. С его плотных, как мех, волос, вода стекала, как с птичьих перьев. Капли воды, как с края крыши, падали ему на плечи, а он будто и не замечал этого. И вообще он не выглядел удрученным или подавленным. Он был у себя дома.
Первая за последние несколько недель трапеза с настоящим мясом вызвала у меня легкие спазмы желудка, которые в эту ночь усилились. Я лежал в сырой темноте, прислушиваясь к мерному шуму дождя, и никак не мог заснуть.
За завтраком он сказал:
— Вы плохо спали сегодня.
— Откуда вы знаете? — спросил я, потому что он всю ночь спал глубоким сном, почти не шевелясь, даже когда я выходил из палатки.
Он посмотрел на меня опять тем же своим странным взглядом.
— Что с вами? — спросил он.
— Расстройство желудка. Он поморщился.
— Это от мяса, — сказал он огорченно.
— Скорее всего.
— Это я виноват. Я должен был…
— Ничего подобного.
— Вы сможете идти?
— Да.
Дождь все шел и шел. Западный ветер с моря поддерживал довольно высокую температуру воздуха даже здесь, на высоте тысячи — тысячи двухсот метров. В серой мгле за пеленой дождя не было видно ничего уже на расстоянии четырехсот метров. Я даже не поднимал головы, чтобы посмотреть на горы, окружающие нас, — все равно вокруг был только дождь. Мы шли по компасу, направляясь на север, насколько позволяли расположение и крутизна горных склонов.
Здесь когда-то проходил ледник, то надвигаясь, то отступая на протяжении сотен тысяч лет. В гранитных склонах остались прорытые им длинные прямые борозды, в сечении имеющие форму латинской буквы «v». Иногда нам удавалось тянуть санки вдоль этих желобов, как по колеям.
Мне было легче, когда я тащил сани: в упряжке можно было согнуться, наклониться, а прилагаемое мною усилие меня согревало. Когда в полдень мы остановились, чтобы подкрепиться, я сидел совершенно больной, не мог есть, меня знобило. Мы отправились дальше. Дорога опять шла в гору. Дождь все шел, шел и шел. Где-то после полудня Эстравен нашел место для стоянки под нависшей огромной черной скалой. За то время, пока я освобождался от упряжки, он уже успел поставить палатку. Велел мне забраться в нее и лечь.
— Со мной все в порядке, — запротестовал я.
— Неправда, — сказал он. — Прошу вас войти внутрь.
Я повиновался, но мне не понравился его тон. Когда он вошел в палатку с нашими вечерними рационами, я сел, чтобы заняться приготовлением пищи, потому что была как раз моя очередь. Тем же повелительным тоном он сказал мне, чтобы я не вставал.
— Вы не должны мне так приказывать, — сказал я.
— Прошу прощения, — сказал он неубедительным тоном, стоя ко мне спиной.
— Я не болен, вы это понимаете?
— Нет, не понимаю. Если вы не хотите говорить правду, мне приходится руководствоваться вашим видом. Вы еще не полностью восстановили свои силы после фермы, а дорога была тяжелая. Я не знаю, где находится предел ваших физических возможностей и выносливости.
— Я сообщу вам, когда до него дойду.
Меня задело, что он относится ко мне свысока. Он был на голову ниже меня, и сложение его было скорее женским, чем мужским, жировых отложений на нем было больше, чем мышц. Когда мы тащили сани вместе, мне приходилось сокращать, укорачивать шаг и притормаживать, чтобы приспособиться к его шагу, прямо тебе жеребец в одной упряжке с мулом.
— Значит, вы уже не больны?
— Нет. Я просто устал. И вы тоже.
— Да, это правда, — сказал он. — Я беспокоюсь о вас. Нам предстоит еще долгая дорога.
Да нет, он не выражал своего превосходства. Он думал, что я болен, а больные должны слушаться и подчиняться. Он был со мной искренним и от меня ожидал того же — такой же искренности, на которую, быть может, я вовсе не был способен. У него не было никакого представления о «мужественности», которое усложняло бы его чувства гордости и собственного достоинства.