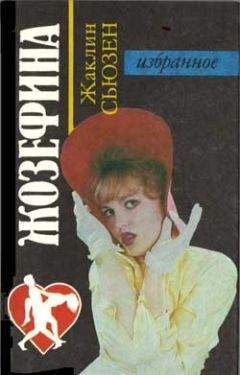Себастьян Фолкс - Возможная жизнь
– Ладно, а как мы назовем эту необыкновенную ноту? – спросила она.
– Чтоб я знал. Для меня она всякий раз называется «пробой». Потому что пробивает позвоночник.
– «Крепче целуй, красотка, / Шепнешь в ночи, / Когда плывут по стенам спальни / Машин цветные лучи».
– Красиво, но звучит немного смешно.
– Когда я закончу, зазвучит иначе. Да и вообще, любовь – это ведь смешно, правда? Как мы сами себя обманываем?
– Ну, это уже потом смешно. Задним числом.
Левая рука Ани скользнула к моему паху, кончики пальцев легко пробежались по тугому бугру.
– Ему там, наверное, жуть как тесно, Фредди.
– Переживет.
Вскоре выяснилось, что Рик затеял с «Эм-Пи-Ар» сложную игру. Он записал выступление Ани в клубе и послал пленки фирме «Апрайт Рекордз» в Сан-Франциско и «Антигоне», новому лейблу, который раскручивала в Лос-Анджелесе одна из крупнейших компаний в отрасли. Ане больше нравился «Асайлэм», но Рик уверял, что его вот-вот сожрут.
– В конце концов, лапушка, всех проглотит «Уорнер Бразерс», – сказал он.
– Как ты объяснишь свои закулисные махинации Джону Винтелло? – спросил я.
– Мы же имеем право рассматривать любые предложения. Другое дело, что у нас пока не хватает песен для альбома.
– У меня их около двадцати, – сказала Аня. – Просто я не исполняю песен, которые еще не довела до ума.
Время было утреннее, мы сидели на веранде, пили кофе.
– Да что ты? – скептически откликнулся Рик. – А вот «Джулия в судилище снов». Сколько времени ты ее высиживала?
– «Джулию» я написала в девятнадцать лет, – ответила Аня и отхлебнула из чашки кофе.
– Ни хера себе, – выдавил Рик. Он почесал подбородок, пытаясь прийти в себя. – Знаешь, что я думаю? Может, нам разделить альбом – одна сторона будет состоять из вещей, ну, типа, личных, а другая как бы из рассказов о других людях.
– В смысле концептуальный альбом? – спросила Аня.
– Ага, вроде того.
Она отбросила волосы со лба.
– Кошмарная идея, старик, просто кошмарная. Любая песня – это отдельный мир. Если ты силком сгоняешь их в одно стадо, каждая только хуже становится.
– Ну, может, ты и права. – Рик встал. – Но одно могу тебе сказать точно – пора поднимать задницу и дуть отсюда в Нью-Йорк.
– Так не хочется уезжать, – сказала Аня.
Она повернулась к лесу, взглянула на него поверх полей. Я посмотрел туда же и увидел в ярком, заливавшем луг свете первые мягкие краски осени. У меня перехватило горло.
– Может, нам стоит обговорить распределение обязанностей в нашей шайке? – сказал я.
Аня вскочила со старого автомобильного сиденья:
– Я хочу, чтобы ты был со мной, Фредди. Ты мой роуди. А ты Рик, будешь ходить подлизывать всяким папикам из компаний звукозаписи.
Таких слов мы от нее еще не слышали и потому расхохотались – все, даже Рик.
– Извини, – сказала Аня. – С языка сорвалось.
Мы с Риком мигом договорились, что разделим плату, причитающуюся нам за управление Аниными делами, ровно пополам и, если в один прекрасный день он просидит десять часов на совещаниях, а я возьму на пианино несколько аккордов, а в другой раз я потрачу неделю на разъезды, а он на отдых в Мексике, никто из нас жаловаться не будет.
– Но я вот что хочу сказать, Рик. Давай держаться за Джона Винтелло. «Эм-Пи-Ар» – хороший лейбл. Без настоящего сукина сына нам не обойтись, а Джон – наш сукин сын.
– Отличное название для композиции, – ответил Рик. – «Наш сукин сын».
– Только если его произносить с твоим джерсийским акцентом, – сказал я.
– Одно название из нашего разговора я уже позаимствовала, – сообщила Аня. – «Так не хочется уезжать».
– Что-то малость сопливо, – заметил Рик.
– Ишь какой ты у нас крутой.
Аня обняла его за плечи одной рукой, меня другой. Мы стояли на веранде и смотрели через поля на юг, туда, где за густым частоколом деревьев заворачивал к большому городу невидимый отсюда Гудзон.
В Ист-Виллидже мы разжились квартирой без горячей воды через Рика и знакомых его знакомых. Четвертый этаж без лифта, три большие комнаты: Аня получила спальню, а мы с Риком – возможность заниматься каждый своим делом. Я позвал слесаря, и тот установил в ванной газовую колонку и привел в порядок краны. Рик сказал, что возместит мне деньги с первого же контракта.
Мы изо всех сил старались сделать наше жилье поуютнее, однако Аня большой домовитостью не отличалась. Она сшила несколько штор, ей нравилось приносить в дом цветы из ночного магазина на Шестой улице, – вот, собственно, и все. Стряпня ее не привлекала. Впрочем, предполагалось, что я проведу там всего пару недель, пока не начнутся выступления Ани в Сохо, а после вернусь домой.
Лори сказала, впрочем, что я могу оставаться в Нью-Йорке сколько потребуется. Дескать, это позволит ей наконец заняться собственной работой – написать пьесу. Какие-то знакомые уговорили Лори расширить одноактную пьеску, сочиненную ею несколько лет назад, еще в аспирантуре. Казалось, Лори всерьез решила взяться за это, а я даже не удосужился выяснить, насколько искренна ее любовь к драматургии или хотя бы про что пьеса. Мне просто нравилось думать, что у Лори, как и у всех наших знакомых, есть талант.
Догадывалась ли Лори, что я влюбился в Аню? Сейчас этот вопрос кажется идиотским. Конечно, догадывалась. Даже Рик сказал однажды: «Она дала тебе веревку, старик, чтобы ты повесился». Но еще больший идиотизм в другом: тогда мне даже в голову не приходило, что Лори обо всем знает. Проявлять ревность или чувство собственника – это противоречило нашим правилам. Мы провели вместе два счастливых года, однако в личное пространство друг дружки не вторгались. Это означало взаимное уважение и предоставляло немалую свободу, но обернулось немалой болью. Лори могла сказать мне хоть что-нибудь. Должна была сказать. А мне следовало поднапрячь воображение.
Клуб, в котором выступала Аня, располагался на Брум-стрит, неподалеку от «Томпсона», в здании с чугунными конструкциями, прежде там находилась швейная фабрика. Войдя внутрь, вы оказывались в подобии кафетерия, еда там была ерундовая – гамбургеры, салаты, – зато вдоль стены за стойкой бара стояли рядами бутылки со спиртным, сотен пять примерно. В задней части бара имелись сидячие места, народу там помещалось много. Выступления Ани состояли из двух отделений, по часу каждое – и так каждый вечер; пела она только свои песни. На сцене стояло пианино, на котором Аня позволяла мне подыгрывать ее гитаре, – но, разумеется, если песня была, подобно «Джулии», написана для фортепиано, Аня садилась за инструмент сама. Не думаю, что в смысле музыки от меня была хоть какая-то польза, просто ей нравилось, что я рядом. В одной песне мне приходилось отбивать ритм на тамтаме: для человека, игравшего в первой своей группе на электрической гитаре и выступавшего в лондонском «Палладиуме», было как-то даже и стремно.