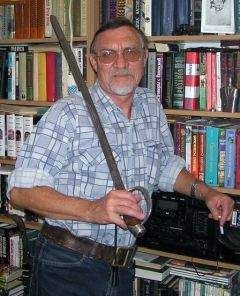Василий Звягинцев - Фазовый переход. Том 2. «Миттельшпиль»
Михаил впал в ступор. Сказать правду, что поступил в девяносто шестом? Не поверят. Ему тогда пять лет должно было быть, если «тысяча восемьсот». А про «девятьсот» лучше и не заикаться.
– Не помню, – только и выдавил он.
– Удивительно. С чего бы вдруг такая амнезия? Сословия не помните, когда и у кого учились – тоже забыли. Однако говорите грамотно, культурно, ни в каких житейских реалиях не путаетесь, рубли в валюту и обратно переводите без усилий. Сигареты вон американские выбрали, а не папиросы «Ира», «что остались от старого мира». Интересно это всё. И товарищ Агранов вас не в больницу Кащенко отправил, а сначала в тюрьму, потом в своё общежитие. На вольное поселение, так сказать… Вас самого это не удивляет?
Волович, в голове у которого слегка плыло всё, и не от коньяка поверх водки и пива, а просто так, словно перед обмороком, обречённо пожал плечами:
– Устал удивляться. В тюрьме четыре дня в потолок смотрел, только этим и занимаясь…
«Железнодорожник» сочувственно вздохнул:
– Ну хоть где работали, в каких газетах и журналах? Пусть не название, пусть только направление… Специальные, ведомственные или для широкой публики? Фельетоны писали, уголовную хронику или про политику? За большевиков, против?
Волович помотал головой.
– Как хотите – не помню. Чтобы не растягивать допрос – сразу скажу: не помню ничего с момента появления на окраине Москвы. Причём в воде. Как бы очнулся от холодной воды. Вылез на берег, стою, озираюсь. Тут автомобиль подъезжает. С чекистами. Сажают и везут. На Лубянку. К тому, кого вы назвали Аграновым. Он меня расспрашивал почти о том же, что и вы. Потом в тюрьму отправил. Из тюрьмы – в общежитие. Я спросил коменданта – мне разрешили прогуляться в город. Там встретились ваши люди. Доставили сюда. Вот всё, что я могу вам честно сообщить… Про газеты? Тоже не могу сказать. Ни названия, ничего. Кажется, политикой я занимался. Про выборы какие-то писал… Про демонстрации несогласного с властями народа…
Сказал и, внутренне сжавшись, стал ждать, что будет дальше. Последние фразы он приплёл специально. Насколько он помнил историю, последние «свободные выборы» здесь были только в Учредительное собрание. Десять лет назад. Тогда же и демонстрации антибольшевистские были. В то же время говорил он чистую правду. На борьбе за «чистые выборы» и против «антинародного режима» имя, можно сказать, себе сделал. Тут хоть на детекторе лжи проверяй – честен он, как на духу.
Вообще люди, к которым он попал, казались ему гораздо страшнее Агранова. Если только они не подосланы Аграновым же, чтобы взять его, так сказать, с другого конца. Но верилось в это слабо. Зато Михаил каким-то верховым чутьём понимал, что по-любому говорить и им, кто он и откуда, никак нельзя. Поверить-то они скорее всего поверят (как и Яков), люди серьёзные и явно неглупые, сообразят, что никакой вражеский агент такую «легенду» лепить не станет. Разве что за сумасшедшего примут, но нет, эта тема уже поднималась и отработана.
А раз поверят, то начнут вытягивать из него абсолютно всё, что он знает о «другом мире». А главное – будут добиваться, чтобы выдал секрет «перехода». И цель. Ну и что он ответит? Значит, единственная разумная тактика – до последнего изображать потерю памяти. Как бы нелепо это ни выглядело. Впрочем, почему так уж нелепо?
Он много чего читал и слышал о самых разных вариантах амнезий, ретроградных и антироградных, полных и «мозаичных», о выпадениях памяти строго выборочных. Бывают ещё и конфабуляции, сиречь ложные воспоминания при полностью сохраненных качествах личности, опровергнуть которые при отсутствии документальных доводов невозможно. И ряд других, крайне интересных повреждений мыслительного процесса. То есть подкован был Михаил в этой теме гораздо лучше, чем бухгалтер Берлага со своими жалкими магараджами, кунаками и слонами. А что вы хотите – XXI век, время всеобщего увлечения психическими расстройствами, извращениями и психоанализом.
«Железнодорожник» встал и, перегнувшись через стол, два раза быстро, сильно и очень больно ударил Воловича по лицу раскрытой ладонью. В голове зазвенело, как от хорошего нокдауна, и было это вдобавок гораздо обиднее, чем удар кулаком.
– За что? За что вы меня бьёте? – откинулся Михаил на спинку стула, чувствуя, что из носа потекла кровь. Ему захотелось сжаться в комочек и спрятаться под стол. Вдруг не найдут. Или – оказаться в уютной и спокойной тюремной камере ГПУ. О Москве XXI века отчего-то даже не вспомнил. Мир вокруг сжался до сиюминутной реальности, какие там прошедшие и будущие времена! Чистый инфинитив[162].
– А чтобы дурака не валял, – спокойно ответил «пенсне». – Давай я тебе чуть подробнее обстоятельства времени и места изложу, раз ты филолог. Как и я. Окончил тот же факультет в девятьсот десятом. Так что кое-что ещё помню. И что ты с университетским образованием – вижу. Тут не прикинешься. Что в ту, что в другую сторону.
– А я вот помню, как бывший камергер дворником успешно много лет прикидывался, – неизвестно к чему сказал Волович. Видимо, просто по привычке не оставлять без ответа ни одну реплику собеседника.
– Чушь! Час-другой – ещё можно, да и то немыслимо театрально выйдет. А больше нет – простая моторика выдаст. О вербальных сбоях и принципах построения силлогизмов говорить даже не будем.
Михаилу всё здесь было дико и невероятно, но этот разговор, после двух ужасных пощечин, вообще выходил за любые рамки. Кафка, натуральный Кафка.
«Железнодорожник» усмехнулся каким-то своим мыслям и ещё раз ударил Воловича. Прежним образом.
– Так о чём я? – как бы не заметил этого «пенсне». – Меня, кстати, Ардальон Игнатьич зовут, а товарищ заместитель управляющего дорóгой – Станислав Стефанович. Так вам удобнее будет и заодно понятнее, что только полное и чистосердечное признание и согласие на сотрудничество обеспечат вам дальнейшее существование. Иначе какой нам смысл перед вами раскрываться? То есть или вы с нами, или…
– Паровозная топка, – без выражения продолжил его мысль Станислав Стефанович. – Никаких следов, даже запаха не останется, дым из трубы с хорошей тягой идёт, и сразу в атмосфере рассеивается. Куда удобнее, чем в стационарном крематории…
Михаилу стало совсем плохо, он с удовольствием провалился бы в беспамятство, но не получалось. И сфинктеры, на удивление, сохраняли тонус, хотя услышанное сейчас было куда страшнее того, что сказал ему Ляхов на прощание.
– Да товарищи, дорогие, – рыдающим голосом проговорил он, – всё же я прекрасно понимаю. Но нечего мне вам сказать, как вы не хотите поверить? Агранов три часа меня допрашивал и убедился, что не вру я! Сказал, расставаясь: «Живите, вспоминайте, нам спешить некуда. Тюрьма не хуже клиники Ганнушкина…[163] А то и к нему самому обратимся». Думаете, мне самому легко? Ну это как спросонья бывает. Помнишь, кажется, сон во всех деталях, а попытаешься удержать – сразу как туман рассеивается. И у меня сейчас так же. Кажется – была у меня жизнь, как у всех людей, учился, работал, вот язык культурный сохранился, вы правильно заметили, и всё, что умел, – вроде бы умею. Увидел сигареты в «Торгсине» – потянуло купить, знал, что вкуснее и удобнее папирос. Но где их курить научился, где раньше покупал – полный мрак. Ничего не могу воспроизвести из прошлого. Как мать звали – и то не скажу, а четыре дня промучился, вспоминая. Помню, однажды на праздник какой-то, Новый год, кажется, напился сильно – и тоже утром ничего понять не мог. Ни где я, ни что за женщина со мной лежит, и почему она совсем раздетая, а я совсем одетый, даже в туфлях… Сейчас – почти то же самое.
Ардальон Игнатьич кивнул боевику-автоматчику, тот исчез в ближнем тамбуре, вернулся с метровым куском резинового садового шланга. И без всякого предупреждения начал наотмашь хлестать Воловича по чему придётся, не трогая при этом головы.
Больно было до невероятности, даже через одежду. Михаил вывалился из полукресла, упал на пыльную ковровую дорожку в позе эмбриона, пряча голые кисти рук между колен. Откуда-то в голове билось знание, что таким шлангом легко можно перебить тонкие кости, а тогда будет совсем плохо.
– Хватит пока, – услышал он голос Ардальона. – Для вразумления – хватит…
Напрасно люди выдумывают всякие изощрённые методики пыток. От иголок под ногти до магнето полевого телефона. Не говоря уже о химии. На самом деле если есть какая польза от прогресса в пыточном деле, так это экономия сил самого дознавателя. А так результат одинаковый. Волович уже готов был сказать всё, что угодно, и подписать, что подсунут, если б потребовалось. Одно останавливало – сознание того, что «признание» только ухудшило бы его положение. Обычно пытаемый только ради этого и начинает говорить – чтобы перестали мучить. Хоть расстрельную статью на себя взять, лишь бы вот сейчас перестали.