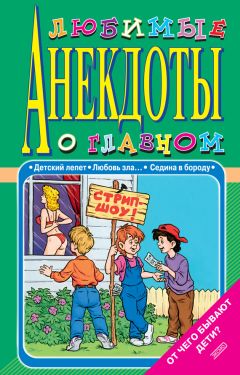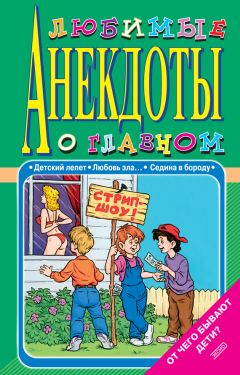Михаил Клименко - Ледяной телескоп (сборник)
Вот так ответ! Что теперь думать Алевтине?
Тут она увидала, как у него на голове волосы слежаны — не от этой новой шляпы, а от его белой фуражки, которую она сколько лет уж любила и которая теперь неизвестно где находилась… Может, сам в кювет бросил, в грязь затоптал, чтобы и собаки не нашли. Как увидала она на голове у него след от фуражкиного околыша — и в слезы… Значит, вот-вот, совсем недавно, совершил это немыслимое дело ее Коленька! Должно быть, как стало красное солнышко садиться, как немножко потемнело в сыром, дремучем лесу, тут и пошел Коля к нему, к тому дядьке напрямик… А вроде такой тихий, смирный, пальцем никого не тронет… И будто поплыли перед Алевтиной картины да образы. И какие слова начал говорить Коленька в смерть перепуганному человеку. А как осторожно так стал портфель за ручку брать, хвататься за него, а тот пожилой слабый человек все пятится, крутится — портфель за спину прячет, казенные документы отдать боится. И как угрожать ему Коля стал — прямо будто слышит Алевтина эти слова своего мужа в смурном лесу на закате солнца…
Так и глядела она на него, далекая от повседневных мечтаний своих. Глядит, а самой лес чудится и Коля с дядькой в нем. Пока злиться на него не стала. Тогда и дар речи к ней полностью вернулся. А он раздевается. Спать собрался. Переутомился, видите ли. Перенервничал в лесной глухомани.
— Да разве об этом я мечтала, Коленька!.. — тихо плача, сказала она ему.
А он ей и говорит, да так сказал, видно, на жаргоне, что она понять ничего не могла.
Он говорит:
— Без вины виноватый в грабеже не виноват. Глупая ты, Алевтина, совсем меня не знаешь! Одел меня кто-то в лесу…
Вот и пойми, что он хотел сказать. Не знает она его, оказывается! Как жениха разодели его в лесу!.. Всю ночь Алевтина обо всем думала и об этих словах. А утром он ей подробно сказку рассказал, как все было. Только она ни одному его слову не поверила. Она ему свое, о чем догадывалась. А он свое. Так до последнего и отпирался, не признавался. Все отрицал. Ну стала она, конечно, в милицию собираться. Так он чуть не на коленях заупрашивал ее не ходить. Ведь, кроме одной волокиты, сколько чего может быть. Не виноват он ни в чем! Не допустит больше этого, что бы это ни было! А если она считает, что он такой мелкий поганец, который может совершить эдакое немыслимое дело над слабосильным интеллигентным человеком, которого сама же она и придумала, пусть идет. Только, значит, совсем она ему не верит, и он для нее ноль без палочки.
— Ладно, — сказала вечером Алевтина. — Только чтоб духу от этих вещей здесь не было. Собери их и в трехдневный срок хозяину верни. Прощения у него попроси. Может, и простит он тебя. А не простит, ждать буду…
Дальше. Уже зимой. Ну хотя бы взять тот случай с прачечной. В стирку белье понес. Приносит туда. Развернули, а в узле все чистое, глаженое…
Да и потом чего только не бывало. Купят, бывало, ржаного хлеба к ухе, принесут домой, а хлеб белый-белый. Или вместо соли оказывается сахар. Тоже мало приятного. Вместо дрожжей… Да чего там говорить!.. Посреди многочисленных комнат то трояк валяется, то пятерка. Купюр никто не терял. Все деньги на месте, резинкой перетянуты (так бабкину привычку Алевтина в знак памяти сохраняла). А вот, пожалуйста, такие мелкие подачки, хотя в квартире ни души другой уже неделю не было. Так что мало-помалу чета Горобылиных все объяснять научилась. Пришлось. Никуда не денешься. Совсем безо всяких объяснений трудно было жить. Откуда трешка? Да, наверно, ветром в форточку занесло. И чего ни коснись с этими чудесами — «обмишулился», «везет», «ошиблась», «они сами напутали…».
Поначалу, правда, и он и она про эти игры природы взялись людям рассказывать — соседям, на работе. Только с этой затеей Горобылины едва неприятностей себе не нажили. Не верят им люди, смеются их сказкам. Что смеялись — это бы ладно. Все равно Горобылиным, как про что очередное «такое» расскажут, легче было жить. Уж что-что, а от людей не скрывали, не таились со своим мелким счастьем. Да только скоро слушать их перестали: чудные какие-то Горобылины стали… Ну тут что? Тут жди — уж и сторониться их станут. Притихли Горобылины, приумолкли. «Об этом» больше никому ни слова. Наотрез отказался Николай и от своей заветной задней мысли: рассказать про эти игры природы одному знаменитому ученому. Не поехал. Только задумчивым стал. А когда, бывало, увидит на полу пару трешек, то лишь и знал твердил жене, успокаивал: «Поживем — увидим! Только ты не бойся, Аля. Я тебя в обиду никому не дам. Вот увидишь!» И она ему в этих жизненных испытаниях еще больше стала и верить и доверять.
Вот после зимы и разыгралось это хотя и маловероятное, но очень видное и вполне правдоподобное событие.
В конце мая жарким утром (опять в воскресенье) Николай пошел в амбарчик за велосипедом. Задумал Николай на велике съездить к дяде Коле в деревню; любил он эти марафоны через горы. Подходит к амбарчику и слышит — земля вздрагивает. А по натуре он горячий был. То да се тут, бах-тарарах, распахивает дверь. Влетает, растопырив кулакастые руки, в этот амбарчик на отшибе. Кругом щели, все здесь видно. Глядит он туда, глядит сюда — нет велика, нету нигде дяди Колиного именинного подарочка! А посредине тут темный конь бесится, на дыбы стать стремится, да крыша мешает. Хватает молодой Николай Павлович коня под уздцы, вывести его хочет, да дверь низка. Шибанул он кулаком по верхней перекладинке, сбил ее. Мотаясь под уздцами, вывел вороного коня во двор и, сам себя не помня — в конце концов сколько лет, сколько зим!.. — вскочил на него, верхом сел. Конь на задних копытах по двору пошел, а передними то к восходу, то к западу припадает — куда скакать не знает. Алевтина выбежала на крыльцо, увидала все это и с крыльца в обморок упала. А Николай, сидя без седла, держа коня боком (тот все круп заносил, скакать хотел), прогарцевал через весь город и поскакал дальше, к дяде Коле в деревню, откуда вернулся поздно ночью.
И вот ровно через шесть дней (на седьмой, в воскресенье) с большим чемоданом приходит к Горобылиным их давний, старый друг-приятель Алик Фетюхин, которого они не видели не меньше трех лет и который являлся далеким, через какие-то там немыслимые колена, родственником Николая. Ну, тары-бары-растабары, здравствуйте, говорит он, вот приехал. Сели, конечно. И начинает Альберт Сидорович мало-помалу ввертывать. И не о чем-то там, про что всем известно, а именно про телепатию. Все смелее Алевтину начинает с ее пустыми бытовыми разговорами перебивать. Вот, дескать, все больше отставании приходится в науке наблюдать. Даже те, которые у себя дома беспрерывно копошатся и клохчут, не могут не видеть, как на научной ниве образуются пробелы и даже белые пятна, из-за которых не только ученым, но и многим простым людям краснеть приходится. (А сам уже, действительно, румяный сидит, жирными губами шлепает, Горобылиным почему-то ни о чем, кроме своей телепатии, слова не дает сказать.) Дальше беседа идет — еще больше смелеет он. Попивает да расписывает! Про телекинез разговор заводит. Один друг его, видите ли, усилием воли алюминиевые вилки гнет, карандаши ломает. Ну и так далее и пошел переливать. Потом замолчал, сидит улыбается, глаза и губы блестят, вопросительно на Николая смотрит. Горобылины понять ничего не могут, почему он такой взвинченный, что ожидает и вообще куда клонит, как говорят англосаксы.