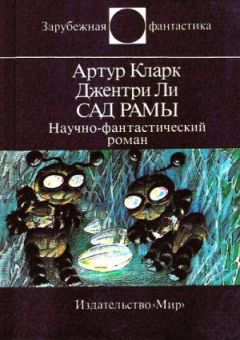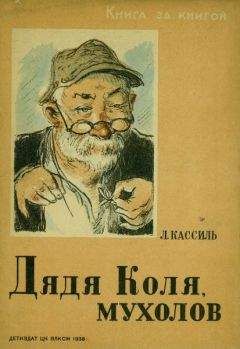Александр Громов - Мягкая посадка
Например, на основании своего опыта я совершенно точно знаю, что через десять минут ко мне войдет дежурная секретарша со свежей грелкой — заберет остывшую, а горячую приладит к тому месту, где, как она считает, находится моя печень, или что от нее осталось. Прежде чем войти в кабинет, она постучит, и если я почему-либо не отзовусь, ворвется ураганом, на ходу распахивая чемоданчик со шприцами и, разумеется, успев по пути въехать пальцем в кнопку вызова медицинской бригады. Но я, понятно, отзовусь сразу же и во время смены грелки буду фривольно шутить, как и полагается в моем положении, и даже, если будет не лень, попробую ущипнуть секретаршу за попку, от чего та, конечно, не откажется и охотно взвизгнет, чтобы доставить мне удовольствие, — а без визга какой смысл? Все три мои нынешние секретарши молоды, послушны, соблазнительны и в меру не умны, так и должно быть. Что бы там ни болтали втихомолку, меня они не интересуют. Я давно уже не представляю демографической опасности. Болтают — и пусть. Разрешается.
Кроме грелки, секретарша принесет стопку бумаг, и я опять займусь тем, чем занимаюсь вот уже сорок лет. Нужно смонтировать дополнительный излучатель для гидропонных теплиц — я сам проверю расчеты, потому что мне не нравится, сколько энергии уходит на эти теплицы, и, по-моему, половина ее уходит зря. Нужно законсервировать старый полиметаллический рудник в ста километрах от Убежища — я распоряжусь и об этом. Нужно дать личное указание открыть новую техническую школу — я дам такое указание. Нужно подготовить и послать третью экспедицию на Юг и убедить кое-кого в том, что это необходимо, после того как первая экспедиция пропала без вести, а вторая позорно вернулась, не пройдя по льдам и тысячи километров. Нужно, пока держится лето, поставить на ремонт пятую и седьмую турбины энергостанции. Нужно, наконец, разделаться с идиотами, которые заперлись в котельной и объявили суверенитет. Нужно… Нужно… Поощрить. Наказать. Дать. Лишить. Подавить нытье и безразличие, заставить пять тысяч человек работать единым организмом. И каждый день, меняя грелки, делать то, что обязан делать президент — первый в истории президент Человечества.
Я знаю, что будет, когда я умру. Через месяц из притащенной с холма глыбы мне вырубят непохожий памятник как Спасителю и создателю Убежища, через год этого истукана с гиканьем завалят и расколошматят на сто кусков как памятник диктатору — как будто одно не влечет за собой другое, — а еще лет через тридцать памятник, может быть, склеют и водрузят вновь, чтобы через какое-то время расколотить опять. Пожалуйста. Не возражаю. Жаль, что я этого уже не увижу. Люди в массе очень смешны, но они единственное, что у меня есть.
Я возвращаюсь в мыслях к своей рукописи. Может быть, потихоньку продолжить ее — уже специально как исторический документ? Понемножку. Лет на десять меня еще хватит. Не исключено, что потомкам будет полезно узнать, как мы еще почти год продолжали фактически уже безнадежно проигранную борьбу, пока у кого-то из ныне покойных (теперь я уже не помню, у кого) не возникла мысль об Убежище, и какие методы борьбы мы применяли, и какие методы применял противник. Он всегда был на шаг впереди, всегда. Между прочим, высказанная однажды в мерзлом подвале гипотеза о влиянии странного биополя адаптантов на электронную аппаратуру полностью подтвердилась, как подтвердилось и то, что мы знали об адаптантах непозволительно мало. Если верить паническим воплям последних теле, пойманных нами много лет назад, среди них появились особи, умеющие убивать взглядом…
Не знаю, не знаю.
Еще хорошо бы написать о том, как мы создавали Убежище, о самых первых годах, и как мы работали — как звери ведь работали, вспомнить страшно, — и замерзали поначалу, и боролись с разразившимися как-то вдруг эпидемиями, и грызлись друг с другом, и спасали книги и микрофильмы, и голодали от перенаселения, но принимали и принимали новых беглецов, пока нас не стало несколько сотен; мы приняли бы и больше, но наплыв с каждым годом все падал и падал, а потом беглецы перестали прибывать совсем. Да что там, героическое было время. Беда только в том, что о нем нужно либо писать честно, либо не писать вовсе. И лучше, конечно, не писать: нынешняя молодая поросль не так устроена, чтобы спокойно воспринять правду. Не исключено, впрочем, что по окончательном впадении в покаянный маразм я сознаюсь в своем авторстве действующего и поныне закона о немедленном уничтожении всех подозрительных младенцев и безусловной стерилизации дубоцефалов, а может быть, если маразм окажется крепок, и в инициативе изгнания в снежную пустыню наиболее шумных крикунов из той, самой первой и по сравнению с последующими вполне безопасной оппозиции. Но сознаюсь лишь на бумаге. До моей смерти этих записок не увидит никто, а покойнику прощается многое, и кроме того, как я лично подозреваю, покойнику абсолютно все равно, простится ему или не простится.
Никого из друзей и недругов моей молодости уже нет в живых — я уйду последним. Пять лет назад при попытке переворота по нелепой случайности погиб Вацек Юшкевич. На протяжении тридцати пяти лет он был бессменным руководителем Отдела безопасности, и на него, в отличие от этих, сегодняшних, я всегда мог без оглядки положиться. Мне его не хватает. После него осталась тетрадь со стихами — он-то знал о моей рукописи, зато я никогда бы раньше не подумал, что Вацек пишет стихи. Первое стихотворение начиналось так:
«Лучезарный закат, полный красных чернил,
Ты зачем мне в окно нежный луч уронил?» —
и далее подробно объяснялось зачем. Я распорядился издать эти стихи тиражом в двести экземпляров и включить их в школьную программу. Вацек вполне заслужил такое внимание к его памяти.
Гарька Айвакян дезертировал через месяц после описанных событий. Следы его затерялись.
Алла Хамзеевна умерла спокойно, от неожиданной старости, когда ей было уже за восемьдесят. Несмотря на откровенно подхалимажный стиль ее общения со мною, о лучшем буфере я и мечтать не мог. До последних своих дней она работала у меня секретарем-референтом и как специалист по словесности достигла большого мастерства в редактировании проектов приказов.
Покойный Глеб Ипатьевич Вустрый некоторое время состоял при мне в своей прежней должности и оказал заметные услуги при возобновлении Государственной Евгенической. Он оказался прекрасным подручным средством: не помню, чтобы у меня хоть раз были основания для недовольства качеством его работы. Кстати, он действительно оказался неплохим производителем: все шестеро его детей получились вполне удачными и здравствуют и поныне. Жаль, что таких людей у меня под рукой всегда было немного… Может быть, зря мы отказывали в убежище профессиональным политикам?