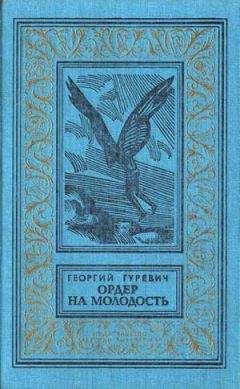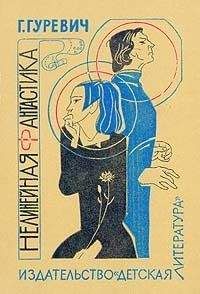Георгий Гуревич - Месторождение времени
Но на меня как на совершеннолетнего запрет не распространялся. И я был зачислен в список допущенных к полету в качестве «птицы номер два», с откровенным нетерпением дожидался, когда же крылья взмахнут и поднимут меня к облакам. Ведь самолет — тут Гелий прав — не дает ощущения полета. Лишь отчасти осуществляет он мечту «рожденного ползать». Я сам не чувствую себя свободной птицей, сидя в содрогающемся от рева мягком вагоне, который перемещает меня с одного аэровокзала на другой. Мне для полноты ощущения подайте простор и ветер в лицо, и чтобы я нырял в облачную дымку, и чтобы над крышами парил, поджимая ноги, стараясь не задеть за трубы, чтобы присаживался на открытые окна, деревья облетал в парке. Хочу парить, хочу порхать и пикировать, хочу крыльями махать! И пускай эти крылья будут громадными, пускай даже неживыми. Важно, чтобы они к плечам были привязаны, чтобы они подчинялись движению рук, взмахивали, когда я машу, кренились, когда я ладони опускаю.
В общем, Гелий приобрел еще одного помощника, неумелого, но старательного. Я тоже трудился в мастерских с утра до вечера, главным образом в роли Помогайченко, как выражались пионеры. Поднимал, поддерживал, таскал, прибивал, привинчивал, мыл и отчищал… мечтая о полетах.
И вдруг телеграмма:
«Приморское. Дом юных техников, Кудеярову. Пятницу 11 утра утверждение темы. Ваше присутствие желательно».
И подпись шефа.
Шефа я уже представлял читателю. Если шеф говорит «желательно», это означает: разбейся в лепешку, но явись. Возможно, на самом деле мое присутствие и не так уж необходимо, но шеф запомнит, что я не разбивался в лепешку ради науки, что у меня были какие-то другие интересы интереснее науки. Запомнит… и сделает оргвыводы.
Так что у меня не было сомнений насчет необходимости отъезда. Но беда в том, что телеграмма попала в мои руки очень поздно. Приняли ее ребята, моей фамилии они не знали, стали искать Кудеярова среди пионеров, потом начали «диких» опрашивать. Хорошо, что кто-то из взрослых догадался посмотреть текст и сообразил, что «утверждение темы» к школьникам не относится. В результате я получил телеграмму в четверг около девяти вечера.
Только утренний пятичасовой самолет мог меня спасти. Мысленно я посчитал: вылет в пять, посадка в четыре, в кассе надо быть не позже трех ночи. До аэропорта полтораста километров. Вечерних автобусов из Приморского нет.
— Ничего, поспеем, — сказал Гелий. — Если ножками поработаете как следует, поспеем. Ночью на шоссе просторно.
Мы выехали заблаговременно, часов в одиннадцать вечера. Дорога была пустынна, никто не мешал, и ночная свежесть бодрила — я с удовольствием крутил педали. Стремительно бежали навстречу одинаково черные силуэты деревьев и скал, слишком стремительно бежали, чтобы казаться таинственными или страшными. Свет фар метался на поворотах, вырывал из черноты белые столбики или неестественно зеленые лужайки. Миг — зелень пряталась во тьму, свет снова упирался в асфальт.
— А почему мы ползем еле-еле? — поддразнивал Гелий. — Силенки бережете, что ли?
— Сил хватит! — кричал я, — Рули давай, поспевай.
Может, руль заклинило? Силы есть и на полтораста километров и на триста.
— Не пробежаться ли нам до Москвы, Юра? Стоит ли возиться с кассой, посадкой, самолетом этим? Выйдем на магистраль — и ходу! Вот это рекордик будет: пробежка Крым — Москва за одну ночь.
— В следующий раз, Гелий. Я-то смогу, машина сдюжит ли? Опять же водитель у меня мешковат, баранку крутить за мной не поспевает.
И сглазил. Кто виноват был из нас, сказать затрудняюсь. То ли Гелий в темноте не заметил резкого поворота, то ли я вертел что есть силы, когда надо было снять ноги с педалей. Жал и жал, упиваясь скоростью и собственной мощью, и, возможно, не расслышал слишком тихо сказанного: «Хватит, Юра». Так или иначе, внезапно фары уперлись в кусты, тормоза взвизгнули, машина подпрыгнула, закряхтела и медленно завалилась набок. Я инстинктивно сжался в комок.
Фары погасли. В смоляной тьме что-то тяжеловесное легло на меня.
Больно не было. Я пощупал руками ноги. Неосознанно пощупал. Бессмысленный жест какой-то, в книгах вычитанный. Уж если не больно, ясно, что ноги при мне. Раскрыл глаза шире. Все равно ни зги.
— Вы живы? — спросил Гелий сверху. Это он лежал на мне.
— Жив, кажется.
Гелий зашевелился, уперся коленкой в бок, чуть не продавил мне ребра. Выбрался наконец. Брякнула наружная дверца. Я тоже вылез за ним. Поверженная машина лежала в кювете на боку.
— Причалили, — сказал Гелий мрачно. — Нам еще повезло.
— От дома далеко? — спросил я. Спросил опять-таки инстинктивно. Я был очень потрясен, и почему-то мне казалось, что надо скорее вернуться назад. Назад, в безопасное Приморское, где не бывает аварий, ночью люди лежат в постели, лампа у них стоит на столике.
У Гелия, видимо, не было такого ощущения. Вероятно, привык к авариям, закалился. Гелий даже помнил, что я спешу на самолет.
— До развилки километров пятнадцать, — сказал он. — Вам стоит идти вперед, на магистрали бывают машины и ночью. Только помогите перед развернуть. Ну и все. Дальше я сам справлюсь. Счастливо!
Все еще дрожа от возбуждения, я вышел на дорогу. Пахнуло ароматом южного леса, и тут же я нырнул в черноту. Черные силуэты скал нависли над дорогой, в черных купах кустов слышались какие-то вскрики, всхлипы, стоны, шорохи. «Чего бояться? — уговаривал я себя. — В Крыму нет опасных зверей». Впрочем, бывают медведи. А люди опасные не бывают?
Все мы, горожане XX века, — питомцы техники, все живем под крылышком мамы-техники, каменными или стальными заборами отгораживаемся от природы. По лону природы путешествуем, лежа на мягком матраце под чистой простыней в купе вагона или в каю|ге. И только авария выбрасывает нас в лапы природы: из каюты в море, из автомашины в лес. Только авария напоминает, как же мы беспомощны, если не держимся за юбку техники.
Уповая на технику, я к утру рассчитывал прибыть на заседание в Москву, за ночь преодолеть полторы тысячи километров. В сущности, я даже не принимал во внимание, километры, я отсчитывал часы: час на посадку, два часа на полет, час до метро, столько-то на метро… Но вот авария выбила меня из седла, и километры получили подлинную протяженность. Десять минут от столба до столба, десять минут на километр. А до развилки пятнадцать километров, до аэродрома — сто пятьдесят. И где-то в невообразимой дали — шеф, поглядывающий на часы. За полторы тысячи километров я спешу к нему пешком. Нереально! Бессмысленно!
Раза два за все время позади загорался свет, меня обгоняла попутная машина. Я махал платком, словно потерпевший крушение, но корабли асфальтовых рек пролетали мимо. Не замечали или не хотели вступать в переговоры глубокой ночью.