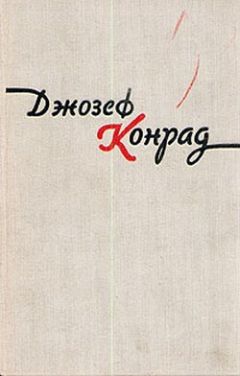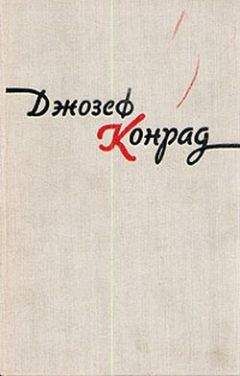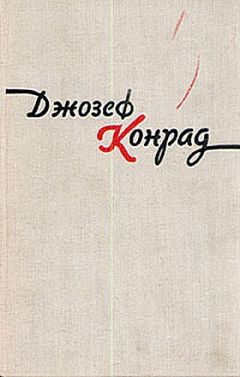Джозеф Конрад - Караин - воспоминание
- Мы не услышали приветствия с твоей лодки! - воскликнул я.
- Да какая там лодка! Он вплавь, - подал голос Холлис со своего рундука. Вид-то какой.
Караин тяжело дышал, блуждая безумными глазами, пока мы молча разглядывали его. Вода, капая с его тела, образовала темную лужицу и кривым ручейком потекла по полу. Слышен был голос Джексона, вышедшего отогнать наших матросов-малайцев, которые столпились было у навеса над спуском в каюту; он грозно чертыхался под скороговорку ливня, и на палубе царила великая суета. Вахтенные, до смерти напуганные видом темной фигуры, перелезающей через фальшборт, - материализовавшейся, так сказать, из ночи, - переполошили всю команду.
Наконец Джексон, все еще сердитый, вернулся с блестящими бусинами воды в бороде и волосах; Холлис, который, хоть и был из нас младшим, порой напускал на себя вид этакого ленивого превосходства, проговорил, не двигаясь с места:
- Дайте ему сухой саронг; мой хотя бы. Он висит в умывальне.
Караин положил крис на стол рукояткой вперед и сдавленным голосом произнес несколько слов.
- Что-что? - спросил Холлис, не расслышав.
- Он просит извинения за то, что явился с оружием в руке, - сказал я потерянно.
- Церемонный нищий, однако. Скажи ему, что мы, так уж и быть, простим друга... в такую-то ночку, - протянул Холлис. - Что стряслось?
Караин надел через голову сухой саронг, скинул мокрый себе под ноги и переступил через него. Я жестом пригласил его расположиться в деревянном кресле - в его кресле, можно сказать. Он сел, держа спину очень прямо, и издал громкое "Ха!"; по его крупному туловищу прошла короткая судорога. Он неспокойно оглянулся через плечо, потом повернулся к нам, словно желая заговорить, но только таращил глаза диковинным невидящим манером; затем вновь поглядел назад.
- Эй, там, на палубе, смотреть в оба! - проревел Джексон и, услышав сверху слабый ответ, потянулся ногой и захлопнул дверь каюты.
- Теперь можно, - сказал он.
Губы Караина слегка шевельнулись. Яркая вспышка молнии на миг превратила два круглых кормовых иллюминатора перед ним в пару свирепых фосфоресцирующих глаз. Свет лампы словно приугас, сделавшись бурой пылью, а зеркало на маленьком шкафчике у него за спиной вдруг выступило гладким листом бледного пламени. Гром покатился к нам, треснул прямо над нами; шхуна содрогнулась, и великий глас, не переставая гневно грозить, двинулся дальше в морское пространство. Меньше минуты бешеный ливень окатывал палубу, затем прекратился. Караин медленно переводил взгляд с одного лица на другое, пока тишина не стала такой глубокой, что мы все ясно услышали тиканье двух хронометров в моей каюте, с ровным неослабным рвением состязающихся в беге.
Каждый из нас троих, странно завороженный, не мог оторвать от него взгляда. То таинственное, что погнало его сквозь ночь и грозу искать укрытия в тесной каюте шхуны, делало его в наших глазах и загадочным, и беззащитным. Не было сомнений, что перед нами сидит беглец, как бы невероятно это ни было. Он сильно осунулся, словно бессонница мучила его неделями; исхудал, словно по целым дням не мог есть. Щеки у него отощали, глаза ввалились; мышцы груди и рук чуть заметно подергивались, как после изнурительного поединка. Да, конечно, он только что покрыл большое расстояние вплавь; но на его лице читалась другая усталость - мучительное бессилие, гнев и страх, рожденные борьбой с мыслью, с идеей - с тем, чего нельзя ухватить, свалить наземь, чему неведом покой, - с тенью, с небытием, непобедимым и бессмертным, питающимся живой жизнью. Мы знали это так же верно, как если бы он прокричал это нам в уши. Его грудь то и дело вздымалась, словно не могла сдержать биение сердца. В тот миг он был наделен мощью одержимых, способной пробуждать в очевидцах изумление, боль, жалость и наводящее страх ощущение близости невидимого, всего темного и безгласного, чем окружено одиночество рода людского. Какое-то время его глаза еще бесцельно блуждали, потом успокоились. С усилием он заговорил:
- Вот, я пришел... Бросился прочь из моего укрепления, как побежденный. Я побежал в темноту. Вода была черная. Он кричал позади меня у края черной воды... Я оставил его одного на берегу. Я поплыл... Он кричал мне... Я плыл...
Он дрожал с головы до пят, сидя в напряженной позе и глядя прямо перед собой. Кого он оставил? Кто кричал? Мы не знали. Понять было невозможно. Я сказал наудачу:
- Крепись.
Внезапный звук моего голоса остановил его дрожь, привел его тело в оцепенение, но сверх этого не произвел, казалось, никакого действия. Некоторое время он словно бы прислушивался, словно бы ждал чего-то, затем продолжал:
- Сюда он не посмеет явиться - вот почему я здесь. Вы, люди с белыми лицами, презираете голоса невидимых. Ему не вынести вашего неверия, силы вашей.
Помолчав, он негромко воскликнул:
- Что, что сравнится с силой неверующих!
- Здесь только ты да мы трое, никого больше нет, - тихо сказал ему Холлис. Он полулежал, подперев голову согнутой в локте рукой, и не шевелился.
- Я знаю, - сказал Караин. - Он никогда не тревожил меня здесь. Старый мудрец охранял меня. Но вот он умер, старый мудрец, знавший о моей беде, и теперь я слышу голос каждую ночь. Я затворился - на много дней - в темноте. Мне слышны печальные перешептывания женщин, шелест ветра, журчание бегущей воды; звон оружия в руках верных людей, их шаги - и его голос!.. Ближе... Вот! Прямо в ухо! Он был рядом... Я почувствовал его дыхание на моей шее. Молча, без крика я кинулся в темноту. Вокруг все тихо спали. Я побежал к морю. Он бежал рядом неслышными шагами и шептал, шептал мне прежние слова - шептал прежним голосом мне в ухо. Я бросился в море; я поплыл к вам, зажав в зубах мой крис. Я, вооруженный, бежал от дыхания - под вашу защиту. Увезите меня в вашу страну. Старый мудрец умер, и с ним умерла сила его слов и заклинаний. И я не могу рассказать никому. Никому. Кто из своих так предан мне и так мудр, чтобы вынести это знание? Только рядом с вами, неверующие, тревога моя рассеивается, как туман под оком дня.
Он повернулся ко мне.
- С тобой я готов отправиться! - воскликнул он, держа голос в узде. - Ты ведь знаешь многих из нас. Я не хочу возвращаться на эту землю - к моим людям... и к нему - туда.
Трясущимся пальцем он неопределенно ткнул себе за спину. Мы с трудом выдерживали насыщенность неясного нам переживания. Холлис смотрел на него во все глаза. Я мягко спросил:
- Где угроза?
- Везде, кроме этого места, - ответил он скорбно. - Повсюду, где я. Он подстерегает меня на тропинках, под деревьями, там, где я сплю, - но только не здесь.
Он оглядел маленькую каюту с ее крашеными бимсами и покрытыми потемневшей олифой переборками; оглядел, словно взывая ко всей ее неказистой чужеродности, ко всей беспорядочной мешанине незнакомых ему вещей, принадлежащих к невообразимому миру воли, дерзаний, натуги, неверия - к мощному миру белых людей, что неодолимо и тяжко шествует у самого рубежа внешней тьмы. Он простер вперед руки, словно желая обнять и нас, и все наше. Мы смотрели на него. Ветер и дождь утихли, и ночь окружила шхуну таким безмолвным оцепенением, что казалось, будто скончавшееся мироздание погребено в могиле из плотных туч. Мы ждали, когда же он заговорит. Властная внутренняя необходимость мучила его губы. Мне приходилось порой слышать, что туземец ни за что не откроется белому человеку. Ошибочное мнение! Да, хозяину не откроется; но страннику и другу тому, кто явился не поучать и не править, кто ничего не требует и готов принять все, что видит, - ему открываются у лагерного костра, в братском безлюдье моря, в приречных селениях, на привале посреди леса, открываются невзирая на расу и цвет кожи. Одно сердце говорит - другое слушает; и земля, море, небо, пролетающий ветер, трепещущий лист тоже слушают исполненную тщеты повесть о бремени бытия.