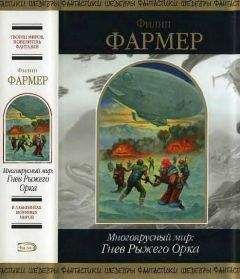Филип Фармер - Многоярусный мир: Ярость рыжего орка. Лавалитовый мир. Больше чем огонь.
— Черт! Сколько раз говорил, чтобы оно у тебя не орало! Или, ей-богу, выкину это долбаное радио в окошко! И закрой этот долбаный холодильник!
Голос был не слишком громкий, но низкий; в детстве он вызывал у Джима страх и удивление, так как казался нечеловеческим. И все же в памяти сохранились мгновения, когда ему нравилось слышать этот голос. Сложные, запутанные были у них отношения, но сейчас ни о какой путанице не могло быть и речи — только ненависть.
Джим выпрямился, закрыл кран и отпил из стакана, медленно оборачиваясь. Эрик Гримсон стоял в дверях — высокий, красноглазый, с набрякшими веками. Лопнувшие сосуды на его носу и щеках напомнили Джиму о трещинах на потолке.
Черт подери! Опять возник конфликт поколений, как выражается школьный психолог. Придется снова бодаться с этим говнюком — так мысленно называл словесную перепалку с «обожаемым» родителем Джим.
Папаша сел, поставил локти на стол и уткнулся лицом в ладони. Какой-то миг казалось, будто он вот-вот заплачет. Потом Эрик выпрямился и громко стукнул ладонями по столу, так что сахарница подскочила. Сейчас отец не сводил с Джима воспаленных глаз, у него тряслись руки, когда он зажигал спичку и закуривал сигарету.
— Ты нарочно включил на полную громкость, так ведь? Богу известно, и .вам с матерью тоже, как мне нужен сон. Но разве ты дашь поспать? И почему? Из-за проклятой злобности, из подлости, которая у тебя от матери, вот почему! Сказано тебе — закрой холодильник! Ты... ты... змей! Змей зловредный, вот ты кто! — Он бухнул правой рукой по столу. Запах пивного перегара заставил Джима сморщиться. — Больше я твоих пакостей терпеть не стану! Богом клянусь, выкину это поганое радио в окошко! И тебя следом!
— Валяй! — пожал плечами Джим. — Увидишь, насколько это меня колышет!
Однако, как бы ни был зол Эрик Гримсон, он не станет уничтожать ни одного предмета, замена которого потребует денег.
— Пошел вон! — заорал он, поднимаясь со стула. — Вон, вон, вон! Чтоб я не видел тут твою паскудную рожу, нарк патлатый! Убирайся тотчас же, или я погоню тебя до самой школы пинками в зад! Пшел! Пшел! Пшел!
«Старик пытается раздразнить меня, — подумал Джим. — Если я его ударю, то он наверняка расквасит мне нос, двинет в живот, врежет по почкам». Именно это он мечтал проделать со своим папашей — и тот нарвется когда-нибудь!
— Ладно! — заорал в ответ Джим. — Ухожу, забулдыга, лодырь, неудачник! А холодильник и сам можешь закрыть.
Лицо Эрика побагровело, рот широко открылся, обнажив кривые, желтые от табака зубы. Глаза напоминали два кровавых сгустка.
— Не смей так разговаривать с отцом! Ты, долбаный хиппи, вонючий... вонючий...
— Как насчет ублюдка? — подсказал Джим, боком пробираясь мимо отца лицом к нему. Он был готов дать сдачи, но его била нервная дрожь.
— Вот-вот! То, что надо! — проревел отец.
Джим уже несся вперед. У самой двери в свою комнату он увидел, как открылась дверь в противоположном конце коридора. Из узкого прямоугольника вырвался мерцающий свет, и сильный запах ладана ударил в нос. В дверном проеме, сжимая четки, появилась мать Джима. Услышав доносившиеся снизу крики, она вместо того, чтобы выйти и заступиться за сына, спряталась за дверью.
— Скажи Богу, пусть вставит себе! — выкрикнул Джим.
Мать ахнула и скрылась, бесшумно притворив за собой дверь. Вот такая у него мать, и проку от нее не больше чем от тени, на которую она похожа.
ГЛАВА 5
Джим, уже одетый и с портфелем в руке, выскочил из дома, пулей промчавшись мимо изрыгавшего оскорбления и угрозы отца, который вовсе не собирался преследовать сына за пределами своей территории. Хотя, если соблюдать точность, земля под его ногами принадлежала не ему, а банку. А если штольни и шахты под домом продолжат рушиться, то все это отправится в пекло.
День был ясный, и солнце приятно нагревало макушку. Отличная погода для Хэллоуина, тем не менее по радио сказали, что к вечеру ожидаются тучи. И в самом деле они уже неслись, обгоняя друг друга, по небу, что нависло над головой Джима.
Издалека доносились крики Эрика Гримсона, который продолжал вопить, хотя его сын уже удалился на целый квартал от дома. Джим спешил, размахивая портфелем, где лежали пять учебников, которые он прошлым вечером даже не раскрывал, карандаши, шариковая ручка и две тетрадки, исписанные текстами песен. Еще там лежали три потрепанные книжки в мягких обложках: «Нова-Экспресс», «Венера на ракушке»[5] и «Древний Египет».
Мать не успела приготовить Джиму завтрак. Ну и ладно. Все равно желудок жжет, словно в него попала раскаленная докрасна колючая проволока.
Чересчур много, чересчур долго.
Когда же он разлетится в клочья при собственном Большом Взрыве?
Он уже грядет, он уже грядет.
Вчера он написал еще одну песню — «Ледники и новые звезды».
Гори, гори, гори, гори!
Ничто не говорит, как я накален.
Слова — лишь тени, ярость — вот суть.
Дядя Сэм мой огонь прихлопнет,
Дядя Сэм — ползущий ледник,
В нем пять миль высоты, он горы
Стирает заподлицо.
Ледник хочет, чтоб все было плоско,
Хочет всякий огонь загасить.
Отец и мать — ледяные великаны,
Идут на меня охладить мой огонь.
Тролли из ФБР,
Огры из ЦРУ,
Вервольфы-легавые окружают меня.
Морозильник тюрьмы мой огонь заморозит.
Ахав преследует Моби Дика,
Говорят, гоняясь дико за собственной шишкой,
Ахав срывает маску с Бога,
И сердце-снаряд готово взорваться,
Но гнев его — свечка, а мой — «юпитер».
Зон за эоном, век за веком, эру за эрой,
Старый стрелочник Время при деле,
Экспресс «Солнце» знай себе прет
К конечной под названием Новая,
Все взрывает, сжигает, испепеляет,
Молотя по Плутону осколками Марса,
Ледник отдает мой застывший труп,
Ледник сам займется огнем,
Застывший труп запылает вновь.
Праведный огонь не загасишь.
Гори, гори, гори, гори!
Здесь было сказано все — насколько хватило слов. Вот почему кино, живопись и рок — прежде всего рок — иногда лучше слов. С их помощью можно выразить то, что неподвластно буквам.
На какой-то миг улица вокруг Джима стала мерцающей и зыбкой, как мираж в пустыне. Затем текучие стены домов застыли в неподвижности, Корнплантер-стрит вернула себе прочность, как пару секунд назад, — и прежнее убожество. Вдалеке над крышами высились серо-черные трубы и верхние этажи сталепрокатного завода Хелсгетса, похожие на металлических великанов. Эти великаны были мертвы — из них больше не валил вонючий черный дым. Джим помнил их живыми, хотя, казалось, это было давным-давно, еще в прошлом веке. Заграничная сталь оказалась дешевле местной, и сталелитейная промышленность района заглохла. Именно с той поры, так казалось Джиму, начались несчастья его родителей, а стало быть, и его несчастья. Несмотря на то что работающие плавильные печи извергали на город грязь и отраву, они также способствовали его процветанию. Вместе с чистым воздухом пришли нищета, отчаяние, ярость и насилие. Теперь горожане могли рассмотреть дом через два квартала, однако будущее скрывал туман не менее ядовитый, чем тот, что когда-то нависал над их головами. Эта улица, да и весь город, представляли собой ту самую «Улицу Запустения», о которой пел Боб Дилан.