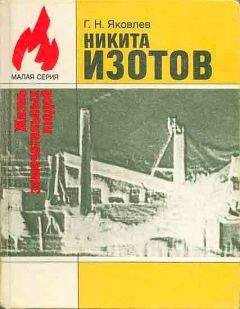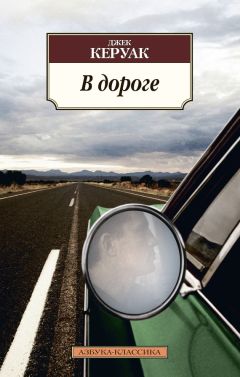Георгий Яковлев - Реликтовая роща
Павлухин не слышал. Он с напряженным интересом вглядывался вниз.
«Какая ерунда, — с непонятным облегчением думал он. — Дрянь, ржавая проволока, металлолом… Неужели так вот и происходит что-то такое, и в такой вот чепухе таится открытие?»
Ему казалось, что он совершенно спокоен, что в голове у него царит полная ясность. Он не замечал, как бешено колотится сердце, не сознавал, что сам он стоит бледный, почти в прострации, впившись взглядом в багровый клубок, казавшийся отсюда живым.
Возбуждение все нарастало, мысли, перескакивая с пятого на десятое, бесследно проносились в голове. Позднее он не мог точно вспомнить, о чем думал в те минуты, Сохранились только полустертые обрывки мыслей о бессмертии и вечной молодости. Но об этом он позднее и не любил вспоминать, даже наедине с самим собой.
Еще минута — и его бы захлестнула паника.
Ладуха вдруг нерешительно сказал:
— Ты знаешь, мне что-то не очень хочется туда идти… Такие перемены всего за четыре дня…
Это было так на него не похоже, что Павлухин даже усомнился: тот ли самый перед ним бравый силач? Стряхнув оцепенение, он энергично спросил:
— Что? Изменилось? Может быть, это к лучшему. Может быть, оно цветет, а? Цветы преисподней! Поехали — время не ждет…
И первым начал спускаться в траншею.
* * *
— Видишь? — вполголоса сказал Ладуха. — Они все сидят на дайке. Коротенькая такая андезитовая дайка. Я ее проследил — метров сто пятьдесят всего длиной. Материал менее стойкий, чем вмещающие породы, поэтому быстрее выветривается. Но не только поэтому: я думаю, посильное участие в разрушении принимают и кусты этой рощи. Как бы там ни было, на этом месте образовалась впадина, но она только здесь, где роща, а дальше дайка скрыта под осыпью. Контроль очень четкий. К тому же, смотри: роща противостоит осыпи… А вот здесь я обедал, — непоследовательно заявил он и разворошил ногой головешки старого костра. Небрежно пнул консервную банку из-под тушенки; дребезжа, она подкатилась к самым кустам и скрылась среди них.
Здесь, казалось, было еще жарче, чем наверху. В знойном безмолвии стояли двухметровые кусты, стояли сплошным частоколом — взрослому человеку не пролезть. Вблизи впечатление не изменилось: тот же ржаво-бурый цвет и какая-то неопрятность. По два больших обтрепанных листа, свернувшись в трубочки, почти лежали на необычайной голубоватой почве; между листьями торчал высокий, в руку толщиной, стебель, постепенно сужавшийся к вершине и увенчанный маленькой серой шишкой. Между черенками листьев и стеблем таилось по одной почке — видимо, из них вырастут молодые листья, когда старые отомрут. Вот и все.
Павлухин наконец сдвинулся с места и пошел вдоль границы кустов плавным, почти крадущимся шагом. Он внимательно вглядывался в глубину рощи и иногда осторожно трогал рукой растения, приседая и словно принюхиваясь.
Тем временем геолог начал разбирать рюкзак и вдруг вскрикнул от острой боли в голове. Бешеный протуберанец швырнул его на землю, на мгновение он увидел побелевшее лицо Павлухина, обернувшегося на его вскрик, и покатился, подскакивая на булыжниках, прямо и кустам, к голенастым ногам океанолога. Он пытался зацепиться за что-нибудь, но его ничто не могло удержать, — он катился вместе с вывороченными из земли валунами, такими громадными, что была опасность задохнуться под их тяжестью. И в это время океанолог неожиданно ударил его по глазам тупым носком башмака с рифленой подошвой. Ладуха успел догадаться, что этого не может быть, что это начинается бред, но бурная багровая пелена уже заполнила все вокруг…
Он понял, что он лошадь и что на его крупе беснуется и неистовствует опьяненное властью и скоростью маленькое жестокое существо — косматое и грязное, дикое и самодовольное, высокомерно попирающее своих братьев по дому.
«Боже, боже, — горестно думала лошадь. — За что этот примат, волею случая превратившийся в сверхживотное, так безжалостно бьет меня? По какому праву он оседлал меня и гонит неизвестно куда, гонит долгие тысячелетия, жадный и безжалостный, как все победители, — мой враг, мое проклятие, мое вечное бремя… У меня может лопнуть сердце и истрепаться легкие — ему все равно; я могу споткнуться и сломать себе шею — он пересядет на другую лошадь. У меня нет сил поспевать за ним, за его невероятным бегом, но он тянет меня за собой. Куда? Зачем? Мне все равно не успеть. Я хочу остаться здесь, в дикой полынной степи. Зачем мне его сомнительное будущее, бег с пеной у рта? Только у него хватит сил и отваги с такой скоростью рваться вперед. Он одинок в своей неутолимой жажде совершенства — и пусть бы оставался в одиночестве…»
Лошадиная мысль вместе с породившей ее печальной головой, круп с сухожилиями и мышцами, — все растаяло в ароматном пространстве степи, рассыпалось прахом и поросло травой…
Ладуха лежал, уткнувшись лицом в эту странную темно-голубую почву, и им постепенно овладевало чувство бессилия. Бешенство и бессилие терзали его душу, потому что, и не открывая глаз, он чувствовал себя проигравшим и поверженным. Стена… жесткая и в то же время упругая стена, которая отбросила его назад. Отбросила не равнодушно, а предварительно поинтересовавшись, что он из себя представляет, и, видимо, убедившись в полной его никчемности.
С трудом приподняв голову, Ладуха увидел перед собой обтрепанные, словно бы вечные, листья и толстый стебель с гладкой, как бы стеклянной кожурой, сквозь которую ясно просвечивала волокнистая сердцевина. На этот раз все окончилось гораздо быстрее, но в голове… в голове у него хозяйничала чужая когтистая лапа, а мозг, словно живой, прыгал и бился в тесной черепной коробке. Ладуха приподнялся на руках и повел глазами вокруг. Справа от него, застряв головой между двумя кустами, лежал совершенно белый и какой-то даже голубоватый Павлухин; геолог подумал, что живой человек не может быть настолько бледным. Поражало лицо океанолога. Строго говоря, это было уже не лицо, а трагическая маска, гипсовый слепок. Застывшие глаза были широко открыты, но незрячи; в них совершенно отсутствовали живой блеск и выразительность, подмененные отталкивающей слепотой запылившегося стекла или тусклых глаз вареной рыбы.
Ладуха ползком, не отрывая глаз от лица океанолога, попятился от кустов, пока не наткнулся на рюкзак. Здесь он остановился. Куда он хотел убежать?
В душе у него бушевала буря. Мир взбунтовался и каждой мелочью мстит тебе, действует наперекор твоим поступкам и желаниям… Будь у него оружие, Ладуха немедленно открыл бы стрельбу по кустам, а если бы они горели, сжег бы рощу без всякого сожаления, — настолько ненавидел он в эту минуту проклятый хлам, так просто пренебрегший им, его желаниями и волей!