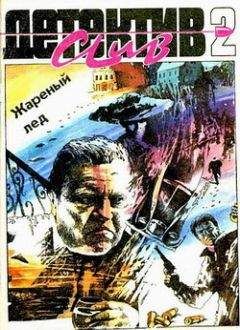Журнал «Если» - «Если», 1993 № 08
— Я всемогущ! — утешает он себя и заводит служанку Срединку. Она, как мы догадываемся, одновременно и обращение к парадигме Пятницы, и ее оппозиция (Пятница так соотносится со Средин-кой, как пятница со средой). Но эта молоденькая простушка могла бы ввести Господина в искушение. Он мог бы легко погибнуть в ее дивных неощутимых объятиях, воспылать похотью, потерять разум из-за слабой загадочной улыбки, невзрачного профиля, босых ступней, горьких от золы очага, и пропахших бараньим жиром прядей. И он сразу, по вдохновению, делает Срединку трехногой; в обычной, банальной повседневности ему бы это не удалось! Но здесь он Бог и Творец. Он поступает как человек, имеющий бочку метилового спирта, смертоносного, но влекущего, и сам заколачивающий ее наглухо, чтобы не подвергаться все время искушению, отвергнутому разумом. Кроме того, его сознание будет непрерывно занято работой, потому что постоянное стремление раскупорить бочку никуда не исчезнет. Так и Робинзон с этих пор станет жить бок о бок с трехногой девушкой, будучи в состоянии воображать ее без средней ноги, но не более того. Он сохранит богатство нерастраченных чувств, нереализованных приемов обольщения (зачем же тратить их на этакое?). Срединка, которая вызывает у него ассоциации и с сиротинкой, и со средой (Mittwoch[5], середина недели: здесь явно прослеживается символика секса), станет его Беатриче. Подозревала ли вообще глупенькая четырнадцатилетняя девочка-подросток о муках вожделения Данте? Робинзон действительно доволен собой. Он сам сотворил ее и сам от себя в том же акте забаррикадировал — этой ее трехногостью. Но вскоре все начинает трещать по швам. Сосредоточившись на одной, впрочем, важной проблеме, Робинзон упускает из виду столько других черт Срединки!
Сначала это довольно невинные забавы. Ему иногда хотелось бы подсмотреть за нею, но гордость не позволяет поддаться этому желанию. Но затем начинают приходить более опасные мысли в голову. Девушка выполняет то, что прежде делал Глюмм. Собирать устрицы это ерунда, но следить за гардеробом Господина, даже за его бельем? В это можно увидеть нечто двусмысленное — да что там двусмысленное! Вполне определенное! И он поднимается украдкой, темной ночью, когда она наверняка спит, чтобы постирать бельишко в заливе. Но, раз он начал так рано вставать, почему бы и ему как-нибудь, прихоти ради (но только ради своей господской, одинокой прихоти) не выстирать ее белье? Пусть это будет его подарок. Один, не побоявшись акул, он несколько раз добирается до «Патриции», чтобы перерыть оставшиеся на корабле вещи — и находит там кое-какие дамские наряды, белье, юбки, платья, трусики; а выстирав, нужно еще все развесить на веревке между стволами двух пальм. Опасная игра! И тем более опасная, что, хотя Глюмма как слуги на острове нет, он не исчез совершенно. Робинзон чуть ли не ощущает его сопящее дыхание, угадывает его мысли: мне-то Господин никогда ничего не постирал. Существуя, Глюмм никогда бы не отважился сказать подобное, но отсутствуя, он становится необычайно болтлив! Глюмма в самом деле нет — есть пустота, оставшаяся после него! Его нигде не видно, но ведь и когда он был, то держался скромно, не попадаясь Господину под руку, не смея показываться на глаза. Теперь же от Глюмма некуда деться; его преданные, навыкате, глаза служаки, его пронзительный голос — все становится заметным; то отдаленные стычки со Сменом слышатся в криках крачек; то Глюмм выпячивает волосатую грудь в спелых кокосах (бесстыдные намеки!), то выгибается корой пальмовых стволов и рыбьими глазами (выкаченными!), то, как утопленник, высматривает из-под набегающей волны Робинзона. Где? Да вон там, где скала на мысу, — ведь у Глюмма была привычка: он любил сидеть там и хриплым голосом ругать старых, совершенно ослабевших китов, пускавших фонтаны в кругу семьи.
Если бы со Срединкой можно было найти общий язык и таким образом отношения, уже весьма неслужебные, повернуть вспять, сузить, поправить приказаниями и требовательностью, суровостью и господской мужской зрелостью! Но это, в сущности, простая девушка, она и о Глюмме-то не слыхала, с ней говорить — все равно что с картиной. Если даже она что и думает на свой лад — слова от нее не услышишь. Словно бы по своей простоте, несмелости (это тоже имеет значение!), но на самом деле такая девическая робость — это инстинктивная хитрость, Срединка прекрасно, чуть ли не кожей чувствует, для чего — нет, против чего — Господин деловит, спокоен, выдержан и высокомерен. Ко всему прочему она часами где-то пропадает: до вечера ее не видно. Может быть, Смен? Ведь не Глюмм же, это исключено! Да его наверняка нет на острове!
Наивный читатель (а таких, увы, немало) готов решить, что Робинзон страдает галлюцинациями, что он сошел с ума. Ничего подобного! Если он в плену, то только у собственного творения. Ведь он не может сказать себе той единственной вещи, которая оказала бы на него радикальное оздоровляющее воздействие. А именно, что Глюмма никогда не существовало, так же, как и Смена. Во-первых, после этого та, что существует сейчас, — Срединка — стала бы беззащитной жертвой уничтожающего воздействия прямого отрицания. Кроме того, такое замысловатое объяснение навсегда убило бы в Робинзоне творца. Поэтому, невзирая на то, что еще произойдет, он так же не может признаться самому себе в несуществовании создаваемого, как подлинный, истинный Творец никогда не признается в сотворенном зле. Ведь в обоих случаях это означало бы полный крах. Бог зла не сотворил, и по аналогии Робинзон с «ничто» дела не имеет. Каждый — узник своего Бытия.
Таким образом, Робинзон оказывается обречен на Глюмма. Глюмм существует, но он всегда в отражении, так, его не достать ни палкой, ни камнем, и не поможет даже оставленная в темноте, как приманка, привязанная к колышку Срединка (до чего докатился Робинзон!). Выгнанный слуга нигде и потому везде. Итак Робинзон, так хотевший уйти от посредственности, окружить себя избранниками, осквернил сам себя, заглюммив весь остров.
Герой терпит подлинные муки. Особенно хороши описания ночных ссор со Срединкой, диалогов, ритмически разделенных ее обиженным, манящим молчанием самки, когда Робинзон теряет меру, рвет тормоза, вся его «господскость» слетает с него, он уже попросту ее собственность — он зависит от одного ее взгляда, кивка, улыбки. А он различает в темноте эту слабую, легкую улыбку девушки, и его одолевают развратные, безумные мысли; он начинает мечтать о том, что мог бы сделать со Срединкой… И в его размышлениях появляются намеки, от свитого змейкой платка до библейского змия; поэтому он воображает ее королевой, а затем отсекает «короля», чтобы оставалась только «Ева» (Адамом, разумеется, был бы сам Робинзон). Но он вполне осознает, что если не может отделаться от Глюмма, к которому не питал никаких чувств, когда тот был у него в услужении, то даже план исчезновения Срединки означал бы катастрофу. Любая форма ее присутствия лучше, чем разлука, это бесспорно.