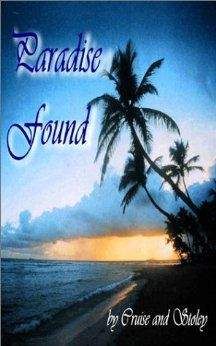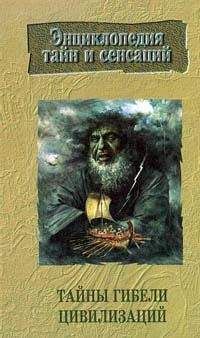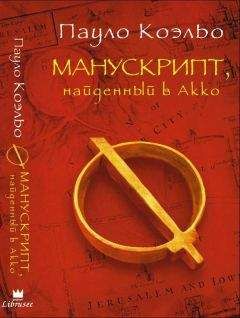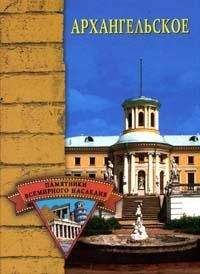Станислав Лем - Дневник, найденный в ванне
Внезапно из темноты появился мчавшийся на меня человек с лицом, искаженным пятнами света и тени, рот его был открыт, словно в истерическом крике. В последнее мгновение я успел остановиться, ударившись руками в холодную, гладкую, вертикальную поверхность зеркала. Я стоял перед ним, а сзади ждала мрачная, разделенная на аквариумы глубина, глухая, абсолютно мертвая, застывшая тысячами растопыренных ладоней, насмешливых, непристойных, мерзких жестов - это были восковые, налившиеся кровью жилистые руки безумия. Я прижался лицом к ледяной поверхности стекла, чтобы не видеть их.
И тогда она дрогнула, поддалась и пропустила меня. Зеркало оказалось поверхностью обычной двери, которая открывалась при нажиме. Я стоял в маленькой комнате, почти каморке, скупо освещенной, словно из экономии, двумя слабыми лампочками. Человек в пижаме, сидевший за канцелярским столом, зачищал пилкой ногти, близоруко держа их под самым носом. Локтями он опирался на груду бумаг.
- Присядьте, пожалуйста, - сказал он, не поднимая глаз. - Стул там, в углу. Полотенце с него можете снять. Вас ослепило? Это пройдет. Подождите минутку.
- Я спешу, - сказал я бесцветным голосом. - Как мне отсюда выйти?
- Вы спешите? Однако я советовал бы вам не торопиться. Вы нам что-нибудь изложите?
- Извините?
Он самозабвенно зачищал ногти.
- Здесь есть бумага и ручка. Я не буду мешать...
- Я не намерен ничего писать. Где выход?
- Не намерены?
Остановившись посреди движения, он посмотрел на меня водянистыми глазами. Я уже вроде бы видел его когда-то - и в то же время не видел. Рыжеватый, с маленькими усиками, подбородок отодвинут назад, выпуклости щек раздуты, сморщены, словно он прячет под ними орешки.
- Тогда давайте напишу я, - предложил он, возвращаясь к своей пилочке для ногтей. - А вы только подпишите...
- Но что?
- Показаньице...
"Вот тебе и раз!" - подумал я, беспокоясь о том, чтобы не стиснуть челюсти, поскольку выпуклость, образованная их мышцами, могла меня выдать.
- Не знаю, о чем вы говорите, - сухо сказал я.
- Ой ли? А пирушку помните?
Я молчал. Он провел ногтями по ткани одежды, покрутил пуговицы, проверил, блестят ли они должным образом, затем вынул из ящика стола маленький, толстый, оправленное в черное томик, который сам раскрылся на нужном месте, и принялся читать:
- Параграф... гм... итак: "Кто распространяет слухи, пропагандирует либо иным убеждает других, что Антиздание как таковое не существует, подлежит наказанию в форме полной эклоклазии". Ну?
Он приглашающе посмотрел на меня.
- Я не распространял никаких слухов.
- А кто говорит, что вы распространяли? Сохрани Господи, ведь сами же вы ничего не делали. Вы только пили коньячок и слушали. Или, может быть, у вас есть затычки, чтобы ими уши запечатывать? Но, к сожалению, наличие затычек тоже может быть наказуемо, ибо...
Он заглянул в том.
- "Если кто-то присутствует при совершении преступления, попадающего под определение параграфа N-N, абзац N, и не даст по происшествии N часов после его совершения показаний перед соответствующими органами, то он подлежит наказанию в форме эпистоклазии, если суд не усмотрит в его поведении смягчающих обстоятельств, исходя из параграфа "n" малое".
Отложив том, он уставился мне в лицо своими влажными, словно вынутыми из воды рыбьими глазами. Так он смотрел на меня некоторое время, пока наконец не предложил одним движением губ, таким незначительным, словно бы он выплевывал косточку:
- Показаньице?
Я отрицательно покачал головой.
- Ну, - просительно сказал он, обескураженный этим. - Малюсенькое показаньице?
- Нет у меня для вас никаких показаний.
- Крохотное?
- Нет. И, пожалуйста, перестаньте так себя вести! - крикнул я. Меня трясло от неудержимой ярости. Он заморгал очень часто, словно бы замахала крыльями застигнутая врасплох птица.
- Ничего?
- Ничего.
- Ни словечка?
- Нет.
- Может, вам помочь? Вот хотя бы так: "Присутствуя на пирушке, устроенной профессорами..." здесь перечисление имен... "а также..." и снова имена... "такого-то числа... и так далее... я стал невольным свидетелем распространения..." Ну?
- Я отказываюсь давать какие-либо показания.
Он смотрел на меня куриными, совершенно круглыми глазами.
- Я арестован?
- Проказник! - сказал он, затрепетав веками. - Тогда, быть может, что-нибудь другое? Гм? Му-му? Гав-гав? Кис-кис?
- Пожалуйста, перестаньте.
- Кис... - повторил он кривляясь, будто разговаривал с грудным ребенком. - Загвоздочка... заговорчик... - пропищал он по-детски тонко, за... го?..
Я молчал.
- Нет?
Он лег всем телом на стол, словно хотел на меня броситься.
- А это вы узнаете?
В руке у него была округлая коробочка, полная мелких, словно горошины, обшитых черной материей пуговиц.
- О! - вырвалось у меня.
Он записал эту реплику с преувеличенной поспешностью, бормоча себе под нос: - О... как Орфини...
- Я ничего такого не говорил!
- О? - подхватил он снова, подмигнув мне. - О, и больше ничего? Одно О, голое О? Без ничего? Ну, как же так, одинокое О? Нужно дальше: Ор... ну? Духовное облачение, священник, что-то насчет того, чтобы вместе, глупости такие вот, хм?
- Нет, - сказал я.
- Нет - однако О! - проговорил он. - И все-таки - О! Все время О!
Он потешался все более явно. Я решил молчать.
- А может, мы споем? - предложил он. - Песенку. Например, такую: "Жил-был у бабушки белый Бараннчик". Ну? Нет? Тогда, может быть, другую: "Динь-дом-бом! Дом..." Вам это знакомо?
Он выдержал паузу.
- Твердый, - проговорил он наконец, обращаясь к коробке с пуговицами. - Твердый, гордый и надменный. Эх, пущай ведут на муки! Никогда я не признаюсь! "Человек есьмь!" А тут ведь ничегошеньки, тут только пилатики, и хоть бы крест... Но ведь нет! Мы не можем ничего, совсем ничего не можем. Мы ведь другое... Крестик на дорогу!..
Я не шевелился. Он снова принялся обрабатывать пилкой ногти, прикидывая, далеко ли им до воображаемого совершенства, подпиливал, подравнивал, поправлял, наконец грубовато, из-под носа, не глядя, как и вначале, бросил:
- Пожалуйста, не мешайте.
- Я могу идти? - ошеломленно спросил я.
Он не ответил. Я поискал глазами дверь. Она находилась в углу и даже была приоткрыта. Почему я не заметил ее раньше? Взявшись за ручку, я оглянулся на него. Увлекшийся шлифовкой ногтей, он не смотрел на меня. Помедлив, я вышел в большой белый холодный коридор. Уже отойдя далеко от той двери, я вдруг почувствовал, что несу что-то большое, тяжелое, привешенные по обеим сторонам тела, словно ведра на коромысле, и остановился.
Это оказались мои руки, мокрые и словно бы распухшие. Я пригляделся к ним. В линиях ладоней сверкали микроскопические капельки. Они на глазах увеличивались. "О, - подумал я, - так потеть. О! Почему О? Почему я не сказал, например, А? Червь? Э, да что там червь! Мерзавец! Не эмбрионом, не зародышем мерзавца быть тебе, а целым, необъятным Мерзавцем..." Я ощутил в себе готовность, словно пороховой фитиль с серой - огонек, искры побежали по нему - вспыхнуло!