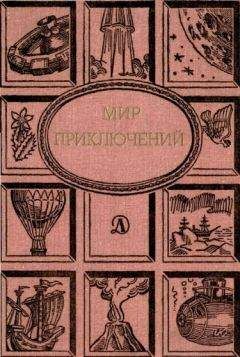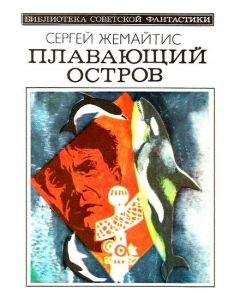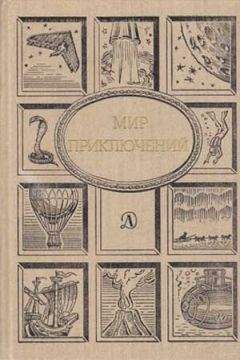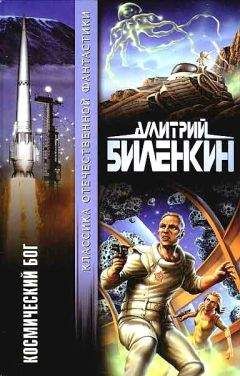Дмитрий Биленкин - Сила сильных (сборник)
В сени он вошел, как в детство, хотя не только он сам, но и его прадеды в избах не жили. Все равно, будто с пробуждением родовой памяти его охватило чувство причастности к этим дышащим смолистым теплом стенам, чувство домашнего покоя и уюта. Он даже поискал взглядом скамью с ведрами и бадейкой, крюки с лошадиной сбруей, домотканый у двери половичок, но тут же остановил себя: все это, разумеется, были заемные, из фильмов почерпнутые, исторически, возможно, неточные образы. Они тут же развеялись, едва Рябцев, следуя за Телегиным, переступил порог, ибо в комнате ничего деревенского, конечно же, не было, а была обстановка самой обычной лаборатории. Над вскрытым пультом колдовала девушка с дымящимся паяльником в руках; при виде Телегина она порывисто вскочила.
— Что-то случилось, отец?
— С чего ты это взяла? — буркнул тот. — Знакомься: Рябцев.
— Ох, извините, не сразу заметила! — Она смешалась, и от Рябцева не укрылась ни тревога ее первых слов, ни угрюмая досада телегинского ответа. — Лада. Здравствуйте, рада вас видеть…
— Живым и невредимым? — испытующе пошутил Рябцев. Протянутая рука девушки, как он и ожидал, оказалась крепкой. — Боялись, что меня съест Серый Волк?
— Боялась, только наоборот. Это мой отец мог заморить вас до волкоедства. И заморил, не так ли?
— Ну и надымила ты, дочка! — Телегин распахнул окно. — И зачем тебе эта рухлядь — паяльник, когда есть молекулярный соединитель…
— От него в ушах звенит!
— Мутантка ты…
— От кого родилась, в того и уродилась.
— Тебе бы ручками, как язычком, работать… Хоть починила?
— Пока нет.
— Вот, а еще дерзишь.
— А как вам поговорилось с волком?
— Не удостоились аудиенции…
— А-а! Что я тебе говорила вчера?
— Брысь, ведьмачка! И чтобы обед был мигом. А после — ты слышишь? — сгоняешь за Машкой. Сама, без всякой этой телепатии.
— Может, не надо?
— Надо.
— Хорошо, батя. Слушаю и повинуюсь.
Лада аккуратно сложила инструменты и вышла — стройный чертенок в прожженном комбинезончике. Телегин хмуро посмотрел ей вслед.
— Да, интуиции у девчонки — позавидуешь, — ответил он на невысказанный Рябцевым вопрос. — Ведь предупреждала: не занимай сегодня гостя, вас то есть, делами, прока не будет. Ну, а я, упрямый скептик, не послушался. И вот, пожалуйста: волк не пришел, «голос бога» сломался.
— Голос…
— Радио, обычное радио! Просто дальняя связь. Но звери не любят, когда из транслятора у них под ухом вдруг раздается наш голос, а человека нет. Для них это противоестественно, как… Словом, вы понимаете. Но именно сейчас «голос» был бы кстати.
— Ну, — улыбнулся Рябцев. — «Визит-эффект» — он и есть «визит-эффект». Какую табуретку прикажете переставить? Ничего, как только я уберусь, все придет в норму.
— Накладки — тоже норма, — без улыбки ответил Телегин. — Норма науки. И жизни. Идемте обедать.
— Думаете, ваша дочь успела?
— Конечно.
Помыв руки, они прошли в смежную комнату, где на столе действительно уже дымились щи, и, вдохнув этот запах, Рябцев сразу почувствовал зверский голод. Едва они взялись за ложки, как снаружи проглянуло солнце. Неяркое, оно просквозило березовую опушку, и свет рощицы заполнил столовую золотистым сиянием, мягко пал на лицо Лады, которая успела переодеться в льняное с вышивкой платье и сейчас менее всего напоминала сорванца-лаборанта. Она держалась оживленно, но в душе ее, казалось, таились задумчивость и грусть, что делало ее неуловимо похожей на васнецовскую Аленушку. Возможно, тому причиной был свет осени, ибо грусть проступала, когда взгляд девушки обращался кокну, за которым плавно кружилась и падала желтая листва. Впрочем, это ей не мешало подшучивать над своими кулинарными талантами, что вызывало искренний протест Рябцева, и живо расспрашивать его о космосе, где она, как выяснилось, никогда не бывала.
— И я вас понимаю, — теплея от домашнего уюта, от красоты девушки и красоты осени, возбужденно говорил Рябцев. — Что может быть лучше этого? — он махнул в сторону окна.
— Ненастье. — Девушка усмехнулась и бросила взгляд на отца, который ел с таким видом, будто коротал досадную задержку.
— Нет, нет и нет! Луна, Марс — это вечная неизменность однообразного ритма, а тут всякое мгновение иное, и даже увядание — это жизнь, а не смерть. В космосе и краски другие, все… Кругом абсолютная физикохимия, чувствуешь себя моллюском, загнанным в скорлупу техники. Странно устроен человек! К чему мы стремимся, как не к гармонии жизни, свободы, красоты и покоя? Но вот же она, здесь, гармония-то… Даже с хищниками вы устанавливаете лад. А мы все куда-то рвемся, что-то меняем, сами вносим в мир беспокойство… Нет, нет, теперь, когда космос открыл нам свои ресурсы, мертвое — мертвому, технике — техниково, пусть работает за небесами. А дом есть дом. Близкое будущее цивилизации, уверен, здесь, в диалектике осмысленного, на новом витке спирали, возвращения к земному, извечному…
— Например, к чаепитию за фотонным самоваром, — вдруг подал голос Телегин.
Лада прыснула:
— Ой, это идея! Надо сшить силиконовый кокошник!
— Помолчи, дочь. — Телегин обернулся к Рябцеву. — Пожалуйста, не обижайтесь: наш заповедник на многих так действует. Вполне объяснимая ностальгия. Тоска по родине, только утраченной уже не в пространстве, как бывало, а во времени, чего не бывало никогда.
— Но это необходимая тоска! — В Рябцеве проснулся не только профессионал, ценящий спор как рабочий инструмент. — Быть может, спасительная! Ведь мы живем на стройке. На стройке! С двадцатого, считайте, века. Ломка, стены падают, сегодня одно, завтра другое, пыль, грохот, лязг. Необходимо, согласен. Но неуютно. И сколько можно?
Казалось, вопрос повис в воздухе.
— Я пыталась поговорить о прогрессе с волком, — наконец задумчиво проговорила Лада. — Да, да, не смейтесь, сама знаю, что глупо… Конечно, он ничего не понял. Ни-че-го-шеньки! Все равно он славный и умница. Знаете, о чем я мечтаю? Прокатиться на сером. Как в сказке…
— Шалишь, красна девица, — отрезал Телегин. — Исследователь! Допрыгаешься.
— Ну и пусть…
— Не дам. Запру и выпорю. Согласно домострою.
— Что так? — удивился Рябцев.
— Она знает. Лада кивнула:
— Отец прав. Но чему быть, того не миновать.
— Не понимаю…
— Да что там… — Девушка коротко вздохнула. — Обычный принцип дополнительности Бора. Я слишком влияю на объект исследования, потому что их всех люблю. Ушастых, серых, копытных — всех. А этого нельзя.
— Любить нельзя? Да как же без этого?