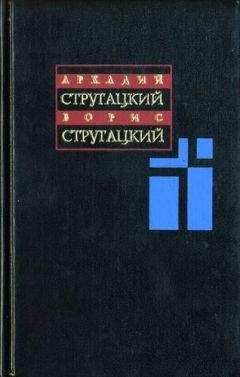Аркадий Стругацкий - Том 2. 1960-1962
— …Теперь все пойдет как по маслу. Папаша Ломба успокоился и заинтересовался.
— Еще бы, такой материалище по теории машинных ошибок!
— Ребята, а КРИ оказался все же довольно примитивен. Я ожидал от него большей выдумки.
Кто–то вдруг захохотал и сказал:
— Семиногий баран без малейших признаков органов равновесия! Бедный КРИ!
— Тише, корреспондента разбудишь!
После длинной паузы, когда Женя уже начал дремать, кто–то вдруг сказал с сожалением:
― А жалко, что все уже позади. Как было интересно! О семиногий баран! До чего грустно, что больше нет твоей загадки!
СВЕЧИ ПЕРЕД ПУЛЬТОМ
В полночь пошел дождь. На шоссе стало скользко, и Званцев сбавил скорость. Было непривычно темно и неуютно, зарево городских огней ушло за черные холмы, и Званцеву казалось, что машина идет через пустыню. Впереди на шероховатом мокром бетоне плясал белый свет фар. Встречных машин не было. Последнюю встречную машину Званцев видел перед тем, как свернул на шоссе к институту. В километре от поворота был поселок, и Званцева удивило, что, несмотря на поздний час, почти все окна освещены, а на веранде большого кафе у дороги полно людей. Званцеву показалось, что они молчат и чего–то ждут.
Акико оглянулась.
― Они все смотрят нам вслед,― сказала она.
Званцев не ответил.
— Наверное, они думают, что мы врачи.
— Наверное,― сказал Званцев.
Это был последний освещенный поселок, который они видели. За поворотом началась мокрая темнота.
— Где–то здесь должен быть завод бытовых приборов,― сказал Званцев.― Ты не заметила?
— Нет.
— Никогда ты ничего не замечаешь.
— За рулем ― вы. Пустите меня за руль, я буду все замечать.
— Ну уж нет,― сказал Званцев.
Он резко затормозил, и машину занесло. Она боком проползла по взвизгнувшему бетону. Фары осветили столб с указателем. Сигнальных огней не было, надпись на указателе казалась выцветшей: «Новосибирский Институт Биологического Кодирования ― 21 км». Под указателем был прибит перекошенный фанерный щит с корявой надписью: «Внимание! Включить все нейтрализаторы! Сбавить скорость! Впереди застава!» И то же самое на французском и английском. Буквы были большие, с черными потеками.
— Ого,― пробормотал Званцев, полез под руль и включил нейтрализаторы.
— Какая застава? ― спросила Акико.
— Какая застава, я не знаю,― сказал Званцев,― но, видимо, тебе нужно было остаться в городе.
— Нет,― сказала Акико.
Когда машина тронулась, она осторожно спросила:
— Вы думаете, что нас не пропустят?
— Я думаю, что тебя не пропустят.
— Тогда я подожду,― спокойно сказала Акико.
Машина медленно и беззвучно катилась по шоссе. Званцев сказал, глядя перед собой:
— Мне бы все–таки хотелось, чтобы тебя пропустили.
— Мне тоже,― сказала Акико.― Я очень хочу проститься с ним…
Званцев молча глядел на дорогу.
― Мы редко виделись последнее время,― продолжала Акико.― Я очень люблю его. Я не знаю другого такого человека. Ни когда я так не любила отца, как люблю его. Я даже плакала…
«Да, плакала,― подумал Званцев.― Океан был черно–синий, и небо было синее–синее, а лицо его было опухшим и синим, когда мы с Кондратьевым осторожно вели его к конвертоплану. Под ногами скрипел раскаленный коралловый песок, ему было трудно идти, он то и дело повисал у нас на руках, но ни за что не соглашался, чтобы мы несли его. Глаза его были закрыты, и он виновато бормотал: «Гокуро–сама, гокуро–сама…» Сзади и сбоку молча шли океанологи, а Акико шла рядом с Сергеем, держа обеими руками, как поднос, знаменитую на весь Океан потрепанную белую шляпу, и горько плакала. Это был первый, самый страшный приступ болезни ― шесть лет назад, на безымянном островке в пятнадцати милях к Западу от рифа Октопус…»
― …я двадцать лет знаю его. С самого детства. Мне очень хочется проститься с ним.
Из мокрой темноты выплыла и прошла над головами решетчатая арка микропогодной установки. На синоптической станции огней не было. «Установка не работает,― подумал Званцев.― Вот почему эта мерзость с неба». Он покосился на Акико. Она сидела, забравшись на сиденье с ногами, и глядела прямо перед собой. На ее лицо падали отсветы от циферблатов на пульте.
— Что здесь происходит? ― сказал Званцев.― Какая–то мертвая зона.
— Не знаю,― сказала Акико. Она заворочалась, устраиваясь удобнее, толкнула его коленом в бок и вдруг замерла, уставившись на него блестящими в полумраке глазами.
— Что? ― спросил он.
— Может быть, он уже…
— Вздор,― сказал Званцев.
— И все ушли к институту…
― Вздор,― решительно сказал Званцев.― Вздор.
Далеко впереди загорелся неровный красный огонек. Он был слаб и мерцал, как звездочка на неспокойном небе. На всякий случай Званцев снова сбавил скорость. Теперь машина катилась очень медленно, и стал слышен шорох дождя. В свете фар появились три фигуры в блестящих мокрых плащах. Они стояли прямо посередине шоссе; перед ними поперек шоссе лежало здоровенное бревно. Тот, что стоял справа, держал над головой большой коптящий факел. Он медленно размахивал факелом из стороны в сторону. Званцев подвел машину поближе и остановился. «Ну и застава»,― подумал он. Человек с факелом что–то крикнул неразборчиво в шорохе дождя, и все трое быстро пошли к машине, неуклюже шагая в огромных мокрых плащах. Человек с факелом снова крикнул что–то, сердито перекосив рот. Званцев выключил дальний свет и открыл дверцу.
― Двигатель! ― крикнул человек с факелом. Он подошел вплотную.― Выключите двигатель, наконец!
Званцев выключил двигатель и вылез на шоссе под мелкий частый дождь.
— Я океанолог Званцев,― сказал он.― Я еду к академику Окада.
— Выключите свет в машине! ― сказал человек с факелом.― Да побыстрее, пожалуйста!
Званцев повернулся, но свет в кабине уже погас.
— Кто это с вами? ― спросил человек с факелом.
— Океанолог Кондратьева,― ответил Званцев сердито.― Мой сотрудник.
Трое в плащах молчали.
— Мы можем ехать дальше?
— Я оператор Михайлов,― сказал человек с факелом.― Меня послали встретить вас и передать, что к академику Окада нельзя.
— Об этом я буду говорить с профессором Каспаро,― сказал Званцев.― Проведите меня к нему.
— Профессор Каспаро очень занят. Мы бы не хотели, чтобы его тревожили.
«Кто это ― мы?» ― хотел спросить Званцев, но сдержался, потому что у Михайлова был невнятный монотонный голос смертельно уставшего человека.