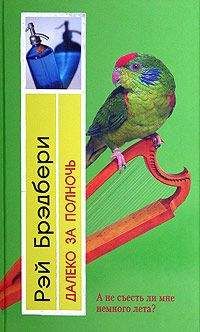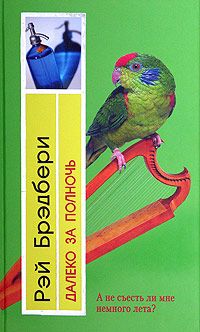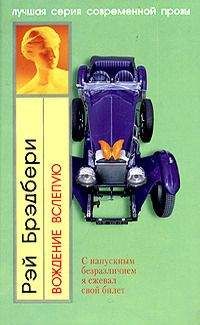Рэй Брэдбери - Сборник 7 Далеко за полночь
— Зато я знаю, — произнес Том, лежа во тьме.
— Правда? — спросил старик. — Ладно, расскажешь мне. Когда-нибудь.
— Да, — отозвался Том, — когда-нибудь.
Они послушали, как стучит за окнами дождь.
— Ты счастлив, Том?
— Вы меня уже спрашивали, сэр.
— Я спрашиваю еще раз. Ты счастлив?
— Да.
Молчание.
— Так значит, у тебя сейчас лето на морском берегу, Том? Те самые волшебные семь дней? И ты пьян?
Том долго не отвечал, а потом сказал лишь одно слово:
— Дедушка, — и кивнул всего один раз.
Старик откинулся в кресле. Он мог бы сказать: это пройдет. Он мог бы сказать: это ненадолго. Он многое мог бы сказать. Но вместо этого он сказал:
— Том?
— Да, сэр?
— О черт! — вскричал вдруг старик. — Господи всемогущий! Боже! Дьявол!
Тут он умолк и задышал ровнее.
— Ну вот. Сумасшедшая ночь. Не мог я напоследок не завопить. Просто не мог, малыш.
Наконец они уснули под барабанную дробь дождя.
С первыми лучами солнца старик тихо и осторожно оделся, взял свой саквояж и, наклонившись к спящему юноше, ладонью коснулся его щеки.
— Прощай, Том, — шепнул он.
Спускаясь по сумрачной лестнице вниз, к непрестанному стуку дождя, он вдруг увидел друга Тома, который сидел в ожидании на нижней ступеньке.
— Фрэнк! Ты что, всю ночь здесь сидишь?
— Нет-нет, мистер Келли, — поспешно ответил Фрэнк. — Я ночевал у приятеля.
Старик повернулся к темной лестнице и посмотрел вверх, как будто мог разглядеть отсюда комнату и спящего в тепле Тома.
— Гха!..
Звук, похожий на звериное рычание, вырвался было из его гортани, но затих. Он неловко переступил с ноги на ногу и опять поглядел на вспыхнувшее зарей лицо молодого человека, того самого, что нарисовал портрет, висящий над камином в комнате наверху.
— Кончилась эта проклятая ночь, — произнес старик. — Так что, если ты немного посторонишься…
— Сэр.
Старик шагнул на одну ступеньку вниз и вдруг взорвался:
— Послушай! Если ты когда-нибудь хоть чем-нибудь обидишь Тома, клянусь Богом, я согну тебя в бараний рог! Понял?!
— Не тревожьтесь, — сказал Фрэнк, протянув ему руку.
Старик посмотрел на нее, словно никогда не видел протянутой для пожатия руки. И вздохнул.
— Эх, черт возьми, Фрэнк, друг Тома, ты такой молодой, что глазам больно смотреть на тебя. Прочь с дороги!
Они пожали друг другу руки.
— Ого, ну и хватка, — с удивлением сказал старик.
И он исчез, словно смытый несметными струями дождя.
Молодой человек затворил за собой дверь наверху, постоял немного, глядя на спящего, наконец подошел и, словно ведомый каким-то чутьем, коснулся ладонью его щеки точно в том месте, которого не более пяти минут назад на прощание коснулась рука старика. Он тронул эту по-летнему теплую щеку.
Том улыбнулся во сне той самой улыбкой, какой улыбался отец его отца, и сквозь сон позвал старика по имени.
Он позвал его дважды.
И снова спокойно уснул.
Душка Адольф
Они ждали его у выхода. Он сидел, потягивая пиво, в маленьком баварском кафе с видом на горы, причем сидел там с полудня, а было уже полтретьего, обед затянулся, пиво — рекой, и по тому, как он держал голову, смеялся и поднимал очередную кружку с шапкой воздушной, как весенний ветерок, пены, было видно, что сегодня он просто в ударе, и двое, сидевшие с ним за одним столиком, старались от него не отставать, но все равно он их обскакал.
Время от времени ветер доносил их голоса, и тогда кучка людей, толпившихся на автомобильной стоянке, подавалась вперед, прислушиваясь. Что он сказал? А теперь что?
— Сказал просто, что все хорошо: снимают.
— Что? Кого?
— Дурак, фильм, фильм снимают.
— А это с ним кто, режиссер?
— Да. А второй, хмурый, — это продюсер.
— Не похож на продюсера.
— Еще бы! Он себе нос переделал.
— А сам? Правда, совсем как настоящий?
— До кончиков волос.
И все опять подались вперед, чтобы посмотреть на этих троих: того, что был не похож на продюсера, застенчивого режиссера, который непрестанно поглядывал на толпу и сутуло втягивал голову в плечи, закрывая глаза, и сидящего между ними человека в военной форме со свастикой на рукаве, чья красивая форменная фуражка лежала на столе рядом с едой, почти нетронутой, потому что человек этот говорил… нет, ораторствовал.
— Вылитый фюрер!
— Боже мой, как будто оказался в том времени. Прямо не верится, что сейчас семьдесят третий. Будто снова в тридцать четвертом, когда я увидел его в первый раз.
— Где?
— На митинге в Нюрнберге, на стадионе. Осень, м-да, мне тринадцать лет, и я член «Гитлерюгенда», стою среди ста тысяч солдат и юношей на этом огромном поле, вечер, факелы еще не зажгли. Столько оркестров, столько флагов, столько горячих сердец, да-да, поверьте, я слышал, как колотятся сто тысяч сердец, мы все были влюблены в него, он спустился к нам прямо с неба. Он был послан богами, мы знали, и время ожиданий прошло, отныне мы могли действовать, с ним для нас не было ничего невозможного.
— Интересно, как чувствует себя этот актер в его роли?
— Тс-с-с, он тебя слышит. Смотри, машет рукой. Помаши ему тоже.
— Помолчите, — вмешался еще кто-то. — Они опять о чем-то говорят. Я хочу послушать…
Толпа замолкла. Мужчины и женщины прислушались к ласковому весеннему ветру, доносившему слова из-за столика в кафе.
У юной официантки, подававшей пиво, зарозовели щеки и разгорелись глаза.
— Еще пива! — крикнул человек с усиками, похожими на зубную щетку, и волосами, зачесанными на левую бровь.
— Спасибо, не надо, — сказал режиссер.
— Нет-нет, — замотал головой продюсер.
— Еще пива! Отличный денек, — настаивал Адольф. — Тост за наш фильм, за нас, за меня. Выпьем!
Остальные двое взялись за кружки.
— За фильм, — сказал продюсер.
— За душку Адольфа, — вяло проговорил режиссер.
Человек в форме удивленно застыл.
— Я совсем не считаю себя… — он запнулся, — его таким уж душкой.
— Он был настоящий душка, и ты тоже прелесть. — Режиссер залпом выпил пиво. — Не возражаете, если я напьюсь?
— Напиваться не положено, — сказал фюрер.
— Где это написано в сценарии?
Продюсер толкнул режиссера ногой под столом.
— Как думаете, сколько недель нам еще снимать? — спросил продюсер весьма учтиво.
— Думаю, мы закончим снимать, — сказал режиссер, большими глотками отпивая пиво, — где-то на смерти Гинденбурга или когда дирижабль «Гинденбург», объятый пламенем, падает в Лейкхерсте, штат Нью-Джерси,[47] — все равно.