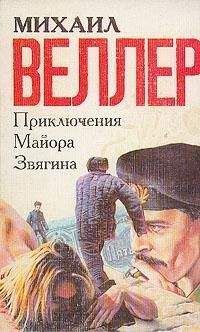Юрий Антропов - Самосожжение
У Алины, как позднее узнал Гей, был хороший вкус. И порой ей хватало и фантазии, чтобы из кусочков разной бросовой материи-приданого, которое она принесла из своего дома в их квартиру на Урицкого, сделать себе вечернее платье, то есть булавками приколоть к лифчику этот кусочек, приколоть и собрать его не просто абы как, а с выдумкой, с чувством гармонии, чтобы получилось элегантное платье, может и вечернее.
Из старого тюля.
Из линялых занавесок.
Бог знает из чего!
Спина, конечно, была голая.
И не только спина.
Но Алина умудрялась изображать перед Геем танец в этом супермодном вечернем платье, не поворачиваясь к нему спиной.
И только напоследок, перед тем как уйти, убежать в коридор за новой моделью, она делала стремительный волчок на месте — лучшая танцовщица самодеятельного ансамбля как-никак! — и Гей видел и не видел голую спину Алины, и не только спину, и он чувствовал, что в его жизни начинается нечто необычное.
При этом Алина как бы загадочно говорила, что не последнюю роль играет общий фон.
Фон действа.
Гей долго не мог взять в толк, при чем здесь какой-то фон, если ее модели и так хороши.
И лишь совсем недавно он понял, какую роль играет этот общий фон.
Фоном, сказала Алина, у них в ДК были задники.
Да, задники.
Это всего лишь нечто вроде малеванных декораций.
Задники действа.
Ах вот оно в чем дело!..
Значит, все то, сказал себе Гей, что связано, в частности, с Бээном, тоже имело общий фон.
Задники жизни.
Это были, выходит, задники к тем или иным танцам жизни, в которой уже Гей был одним из солистов.
Вот какая кристаллическая решетка вырисовывалась.
Точнее, лишь предварительный контур некоторых ее сторон.
— Да, но позвольте наконец представиться, — он встал при ее появлении из ванной и сделал церемонный полупоклон: — Гей…
— Как?!
У нее вырвался этот изумленный вскрик, и он замер с полуоткрытым ртом, не успев произнести свое полное имя.
Он, кажется, понял ее состояние.
— Да, того человека, помнится, звали точно так же…
— Он сжег себя сегодня вечером, — у нее дрожал голос.
— Да, я видел.
— И вы говорите об этом так спокойно?!
Он пожал плечами:
— Что же делать… Увы, это не первый и, надо полагать, не последний случай. К сожалению, жертва напрасная.
— Почему? — спросила она и тут же спохватилась: вопрос был, конечно, глупый.
— О нем уже почти никто не думает… Как не думают о тех, которые гибнут каждый день в войнах объявленных и необъявленных.
Почему-то именно тут она вспомнила Гошку.
Может быть, потому, что он был солдатом.
Война и солдат.
Солдат и война.
Эти два слова стоят рядом.
— Что же делать? — спросила она в тревоге.
— Образумиться… — Он пожал плечами. — Я говорю о тех, кто провоцирует новую войну.
Она долго молчала.
Кажется, теперь она вспоминала Гея.
То есть своего мужа.
Именно от мужа она впервые услышала эти слова.
Он ведь и в книге хотел написать об этом!
Вид пустого бокала, из которого Алина в ванной пила воду, а теперь нелепо держала перед собой, вернул их к тому, с чего они было начали.
— Ну что?.. — Он взял бокал из ее рук и поставил на холодильник. — Теперь поедем смотреть ночную Братиславу?
Она молча прошла к окну.
Из этого номера вид был не на Дунай, как поначалу Алина подумала, а на храм святой Марии-Терезы.
Как раз в эту минуту раздался звон колокола.
Алина знала, что Гей любил такой тихий, как бы печальный звон колокола.
— И вы тоже пишете книгу? — спросила она вдруг.
— Да… — смешался он.
И невольно огляделся.
Нет, нигде не было ничего такого, что говорило бы о его работе над рукописью.
Он привык это скрывать от всех.
Особенно от служащих фирмы, в которой он работал.
— Мне нужны не писатели, а социологи, — заметил однажды генеральный директор фирмы господин Крафт.
И Гейдрих — это было его полное имя — старался помнить об этом.
И даже здесь, в Братиславе, он всякий раз убирал все материалы с глаз долой.
На столе был только журнал с изображением на обложке президента одной великой страны.
— Так почему же вы подошли именно ко мне? — резко спросила Алина.
В ее голосе было раздражение.
Ему казалось, что она опять смотрит на церковь, в которой сегодня венчался ее муж.
На другой, естественно, женщине.
Но она, протянув руку почти к самому верху рамы, сказала:
— Там — Рысы…
Гей вздрогнул.
— Что вы сказали?
— Я сразу поняла, зачем вы приехали сюда, в Татры.
Она посмотрела на Красную Папку, которую он держал под мышкой.
— Да, — он кивнул, — мне давно хотелось побывать на Рысы.
— А это у вас… вроде отчета?
— Да!
— Я понимаю вас… Несколько лет назад мы с мужем тоже были на Рысы… А такие канцелярские папки, — вдруг произнесла она, — обычно лежат большущей стопкой на столе моего отца…
— Эту папку, — сказал Гей настороженно, — я взял у Бээна…
Было такое впечатление, что это странное имя на мгновение парализовало ее.
Мало ли что напомнило оно ей своим звучанием!
— Мне бы хотелось подарить вам на память маленькую брошюрку…
Он порылся в Красной Папке и достал книжечку с тонкой дешевой обложкой, на которой было написано:
HoMo prEkataStrofilisАлина взяла ее нетерпеливо из его рук.
— Человек докатастрофический… — прочитала она с удивлением.
— Позвольте, я сделаю автограф…
Гей взял красный фломастер и, волнуясь, написал наискосок:
ЛЮБОВЬ СПАСЕТ МИРГей заметил однажды, что, когда он пишет, в его комнате, которую Алина иногда называет кабинетом, или в номере отеля — но пока еще не в домике на Истре, потому что никакого домика не было, — время от времени раздается стук, похожий, как он помнит по двум случаям, на стук в операционной, когда хирург бросает инструмент в металлическую ванночку.
Что касается Гея, он бросал на стол импортные фломастеры, которыми правил текст рукописи.
Синяя, красная, а также другого цвета вязь письма была похожа, если уж говорить о физиологии, на сплетения вен и артерий, пронизанных капиллярами правки.
Гей был уверен, что кровообращение его новой рукописи в целом достаточно жизнестойкое, но был не уверен в том, что не возникнет по чьей-то вине тромб, от которого остановится сердце.
И после того как Гей написал на обложке своей брошюры: ЛЮБОВЬ СПАСЕТ МИР, он бросил на стол фломастер.
И раздался звук, похожий на стук в операционной.