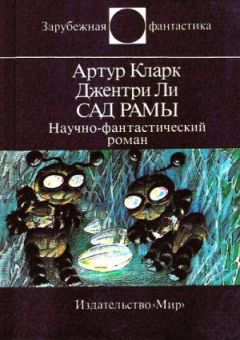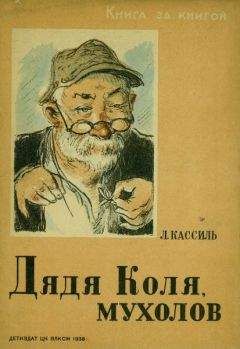Александр Громов - Мягкая посадка
Вероятно, мне все же вкололи что-то сильнодействующее — не могу представить, кто и какими не перекрытыми противником закоулками сумел доставить меня к штабу. Помню два гигантских транспортера, оба еще чадящих, один из которых успел развернуться для боя, но больше уже ничего не успел, а второй так и не тронулся с места, испустив дух возле колючего вала; помню безобразно спутанные клубки колючки в тех местах, где вал был прорван, и широкие гусеничные колеи на снегу, и несколько растерзанных пулями трупов защитников и нападавших, и безжизненное тело пулеметчика, свесившееся с вышки. В штабных лабиринтах не нашлось ни одной живой души, и кто-то опознал командующего по отсутствию руки, потому что опознать его в лицо было невозможно…
А над городом висела тишина. Метель съела звуки, и только по трупам в коридорах штаба ощущалось, что катастрофа произошла здесь и с нами, а не за тысячу километров от нас, что десятки и десятки стай растекаются сейчас по беззащитному городу, грабя, насилуя и убивая всех, кто встретился им на пути, потому что ничего другого адаптанты делать не умеют. Где-то, слабо подсвечивая мутное небо, разгорались пожары, где-то отстреливались, разъединенные части еще продолжали драться, и кто-то, наверно, пытался пробиться из окружения по линиям подземки неглубокого залегания и другим коммуникациям, еще не затопленным по нашей же нерасторопности люизитом, как поступил бы и я, командуя окруженной частью, но звуков боя не было слышно, и каждый из нас, кому повезло выжить, понимал, что первый раунд сопротивления обесчеловечению проигран нами вчистую.
Нами? Кем это — нами?
Немногими, кто остался. Теперь — и без меня…
Снова прорвался, забился о стены одинокий крик. Кричал не я. Я лежал лицом вниз на цементном полу, борясь с позывами к рвоте, и в моей голове поселился еж. Он топотал лапками, блуждал впотьмах, тычась в мозг то иглами, то холодным мокрым носом, раздраженно фыркал, не понимая зачем его заперли, часто чихал, а иногда, вдруг испугавшись чего-то, сворачивался в надутый шар, и тогда тысячи игл впивались в меня изнутри, а я царапал ногтями пол, чтобы не завыть. Или мне казалось, что царапал. Тело было чужое, выключенное. Моим оставалось лицо — оно горело, и под ним было жаркое и липкое. Вероятно, я застонал, и сейчас же кто-то грубо перевернул меня на спину, слух уловил обрывок: «…в кондиции… скоренько…»— и ко лбу мне приложили нечто мягкое и влажное. Прижгло, будто приложили утюг. Я зашипел и попытался пошевелить скрюченными пальцами. Пальцы слушались. Глаза были целы, и я обрадовался. Насчет переносицы имелись сомнения и, судя по ощущениям во рту, не все зубы сидели на своих местах. Ног я не чувствовал и интереса к ним пока не испытывал.
— Сейчас будет в кондиции, — повторил кто-то. — Сей момент.
— Не морда — фарш, — раздраженно ответили голосом Сашки. — Что, не могли поаккуратнее?
Он еще что-то говорил, но смысл от меня ускользал. Возражать ему не осмеливались.
Еж снова чихнул, по коже пробежали мурашки. Еж был простужен.
Теперь я осознал, где нахожусь. Каморка во владениях Экспертного Совета — теперь уже, вероятно, бывшего Экспертного Совета — была та самая, где жил Бойль, и в каморке было тесно. Посторонние звуки сюда не проникали. Пыльная лампочка горела в четверть накала, на стенах пластались гигантские тени, в углу каморки угадывалось какое-то тряпье и почему-то валялся сапог с разорванным голенищем. После всего, что я видел, когда меня волоком тащили по коридорам, меня не очень удивило бы, если бы в сапоге оказалась нога без туловища. Но ноги в сапоге не было.
Крик повторился, и опять кричал не я. Кричал старик — надрывно, захлебываясь. Достигнув высшей пронзительной точки, крик начал стихать, а когда стих, послышался торопливый прерывающийся шепот: «…нет, нет… никакого вреда, уверяю… никакой опасности вашему человечеству… не надо больше, прошу вас… пожалуйста… никакого вмешательства, только наука, поверьте…» — «Завянь с наукой, — сказали ему, и порученцы коротко взгоготнули. — Тебя о чем спрашивали, потрох?.. Тебя о науке спрашивали?!» Металлически лязгнуло что-то невидимое. Бойль болезненно охнул.
Я попытался сесть, и тут меня, наконец, вырвало на пол. Еж в голове подпрыгнул.
— Ага, — сказал Сашка, — вот и второй именинник. Кто бы мог подумать, а?
Порученцы хранили почтительное молчание.
— Кто бы мог подумать, — сказал Сашка, — что среди людей может оказаться выродок, вовремя нами не распознанный? И к тому же в Экспертном Совете? Мыслимо ли?
Никто не ответил. Было слышно, как тяжело, с хрипом дышит Бойль.
— И кто бы мог подумать, что в наших рядах может найтись предатель, решившийся на добровольное сотрудничество с адаптантами? — продолжал Сашка. — Кто, скажите мне, мог такое подумать? Не я. Нет, не я.
Меня снова вывернуло. Я отплевался и попытался приподняться на локтях.
— Помогите ему.
Меня вздернули под руки и посадили на топчан. Затылок коснулся холодной стены, стало полегче. Еж тоже не возражал. «В блевотину наступил, — сообщил один из порученцев, с оттяжкой возя подошвой по полу. — У, с-сука!..» Он бережно ощупывал опухшую половину лица, украшенную великолепной гематомой. Моя работа, подумал я с мимолетным удовлетворением. Жаль, мало…
— Постойте-ка в дверях, ребята, — скомандовал Сашка. Порученцы нехотя отошли к двери. — С той стороны, — добавил он негромко, и порученцы исчезли.
Вацек жался к стене. Бойль, намертво прикрученный к табурету, клонился набок, уронив голову на грудь. Спина его не держала.
— Зачем тебе это? — спросил я, стараясь говорить спокойно. — Знаешь ведь, что вранье. От первого и до последнего слова.
— Ты так и людям скажешь? — осклабился Сашка. — Подумай сам, поверят ли. Представляешь себе картину: «Вот он, предатель, пятая колонна, все из-за него, теперь он ваш…»— Сашка мечтательно закатил глаза. — Воображаю, что с тобой сделают, в дурном сне не приснится… Не нравится картина, а?
— Тебе тоже, — сказал я.
Он посмотрел на меня с уважением.
— А ты иногда умный. Даром что доцент.
— Разгром штаба — твоя работа? — спросил я, напрягая и расслабляя руки.
— Вот тебе! — И Сашка сделал непристойный жест. — Наша! Это наша работа! Твоя и моя. Так и помни. Это результат нашей с тобой работы за последний месяц, ты уяснил?
Я заскрипел зубами. Я уяснил. Это было правдой. Это не могло не быть правдой уже потому, что в наши дни возможна только такая правда. Страшная. Которой не хочется верить и которая все-таки существует как бы независимо от людей. На самом деле люди не хотят знать всей правды, потому что боятся извериться и сойти с ума. И незнание правды двигает историю, как двигало во все века… А знание… знание правды подвинет ли что-нибудь? А если да, то куда?..