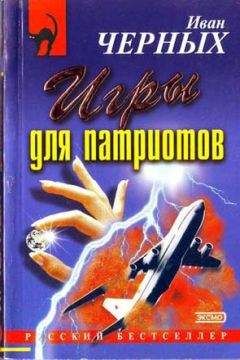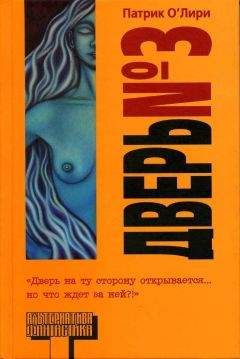Иван Беляев - Фригорист
ВМЕСТО ЭПИЛОГА
– В Агде холоднее, – старый Богайбо смотрел в ледянистый туман, окутавший побережье, щуря свои и без того узкие глаза.
Кожа на его острых скулах была туго натянута, щеки розовели младенческим румянцем. Богайбо был похож на состарившегося ребенка, хотя разумение имел далеко не детское.
– Перезимуем как-нибудь, – вторил ему Стрелков, потягивая «Балтику» номер девять, ставшую в Якутии народным напитком.
Он как и шаман был одет в оленью парку. На голове Богайбо возвышалась ритуальная шапка из собачьей шкуры, отделанная длинными собольими хвостами. Головной убор Стрелкова был попроще – обычная лисья ушанка. Глаза защищали от солнца и снега большие очки с темными стеклами, которые Петрович снимал только в помещении. Богайбо знал, что Стрелков стал невидимкой в результате «несчастного случая», но выдавал его за духа, счастливо дезинформируя таким образом аборигенов.
Аборигены безоговорочно верили шаману, глубоко почитая Стрелкова как духа, к которому можно при случае обратиться с житейской просьбой. Но это обстоятельство, такое приятное и согревающее изболевшуюся душу Стрелкова, вытолкнутого из социума, через месяц-другой стало его раздражать. Спокойное приятие его в качестве невидимки словно лишало его уникальности. Так бывает, когда, например, наш человек едет на сытый Запад и его обычные представления о том, кого считать богатым, рассыпаются в пыль. Он-то считал, что пары машин и двухэтажной дачи достаточно для подобной репутации, но тут ему открывается такая роскошь, такой изощренный шик, что он чувствует себя потерянным и понимает, что до настоящих богачей ему далеко.
Вот и Стрелкову казалось, что он потерял свое отличие, он был недоволен, но скрывал досаду в тайниках сердца. Последней каплей в этом его раздражении было интимное общением с приведенной к нему Богайбо женщиной, которую вовсе не удивила невидимость Стрелкова. Когда он снял свои теплые «доспехи», она ощупала его, как некий плод, и принялась за дело. Ее вовсе не удивило, что дух обладает нормальной человеческой потенцией, она даже заявила, при этом счастливо улыбаясь, что «это» всем нужно. И в этой ее невозмутимой констатации сквозила некая насмешливая мудрость привыкшего к экстремальному климату народа, и эта-то невозмутимость сначала удивила Сергея, а потом, твердея в его памяти, превратилась в железный стержень, пронизывающий его благодарное смирение острой болью. Негодовать все же было не на кого, кроме тех обстоятельств, которые сперва способствовали его превращению в невидимку, а потом привели сюда, где никто не выказывал по поводу его невидимости ни удивления, ни тревоги.
Единственный, кто скрашивал это «обыкновенное чудо», был Богайбо, который уверял Стрелкова, что видит его ауру, а потому тот от Богайбо никуда не спрячется. Стрелков ухмылялся, но был признателен Богайбо и тесно сдружился с ним. Богайбо как бы говорил, что Стрелков все же отличается чем-то от образов той мифологической парадигмы, которая определяла миропонимание якутских аборигенов. Но когда Стрелков поинтересовался, как насчет других духов и Богайбо, сузив свои глаза-щелки, сказал, что и их ауры доступны его восприятию, Стрелков скис.
Аборигены, поселение которых находилось под Аяном, жили не так уж плохо. В Аяне продавалось много японских товаров, в том числе и электронных, не было только холодильников. За ненадобностью. Стрелков даже хотел послать жене цветистый японский платок и черкнуть пару строк, но почему-то передумал. Его прежняя жизнь закончилась, теперь он это хорошо понимал, и здесь, в краю снегов и льдов, на берегу Охотского моря, началась его новая жизнь, полная монотонного покоя, мелких радостей и бесконечной ностальгии. Он ел рыбу, помогал разделывать тюленьи туши, добытые контрабандой, потому что местному населению охотиться на тюленей не разрешалось. Богайбо часто жаловался на падающую продолжительность жизни.
– Раньше тюлень ели – долго-долго жили, – вздыхал он, – теперь тюлень нет – быстро смерть приходит.
Стрелков, сочувствуя, кивал головой и думал о своем. Скоро зима, а зима в эти краях зверски жестокая. Первая зима, которую он проведет вместе с Богайбо и его соплеменниками. Знал ли он когда-нибудь, думал ли, что попадет сюда, на эти седые пустынные берега, гадал ли, что развлекать его будут парализующе однообразный бой барабана и зычно-прерывистый шаманский голос, всхлипывающий и ревущий как ураган, проходящий над закованным в ледяные доспехи морем?
Но в глубине его сознания зрело некое решение. Он жаждал активной жизни. Здесь, думал он, его уникальность, его скрытые возможности никогда не найдут себе достойного применения. Он и сам не знал, насколько зависим от людей, насколько крепко засело в нем убеждение о непременной пользе, которую должен приносить индивид обществу. Аборигены «растворяли» его в местном пейзаже, делая его частью бесконечных заснеженных пустырей, где он, Стрелков, наряду с другими духами вел то существование, которым и наделяли его одетые в оленьи парки люди. Он жаждал стать самостоятельным и теперь это понятие самостоятельности и самоценности заключалось для него в его необычном облике и в возможностях, которые открывала перед ним его невидимость, тогда как раньше свою подлинность Стрелков видел как раз в отсутствии сколько-нибудь значимых различий от рядовых граждан.
У него было не так уж много времени, чтобы – за изгибом изгиб – проследить это изменение сознания, но ему казалось, что прошла целая вечность с того момента, когда люди Полкана взорвали лабораторию. И монотонная белизна пейзажа, окружавшая его завесой похожих один на другой дней, только усиливала эту иллюзию.
Notes