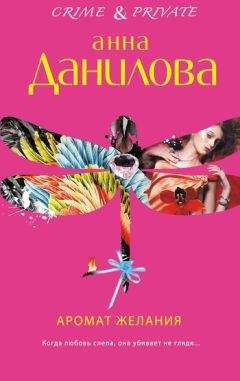Ольга Ларионова - Формула контакта
Инебел вжался в песок, напрягая мускулы, приводя их в боевую готовность. Очнувшись, он был безвольным рабом, послушным воле карающих Богов. А сейчас это был даже не человек — зверь, готовый в подходящий момент прыгнуть, перегрызть горло, закидать песком и снова притаиться, прикинуться полутрупом, скованным дурманом питья. Потому что по немногим словам он догадался, что сейчас жрецы замышляли что-то против сказочного, беззащитного Дома Нездешних.
И ни единого мига сомнений не было у него в том, что он не вооружен ни знаниями, ни тайнами и потому обречен в первую очередь.
Он просто ждал своего момента, и в теле стремительно копились ненужные до той поры силы, и обострившийся слух выбирал цепко и безошибочно те крупицы сведений, которые поведут его в той страшной драке, которая предстоит ему одному против всего Храмовища.
Возле его лица глухо стукнули плетеные, обмазанные глиной ведра. Неусыпный потоптался, разминая ноги, потом точным тупым ударом пнул Инебела прямо под ребра. Юноша задохнулся, но догадался сдержаться — не вскрикнул. Только пальцы судорожно сжались, захватывая песок. И не только песок…
Под правой ладонью прощупался длинный сплющенный брус. Камень? Глина? Гораздо холоднее того и другого. Память не подсказывала ничего подобного. Один край заострен — если сжать сильнее, то пожалуй разрежет и кожу на ладони; другой — зазубрен, словно распрямленная челюсть лесной собаки.
Силой мысли он мог остановить одного жреца… сейчас, озлобясь и собрав всю эту злость в тугой узел — пожалуй, и двух.
Такой зазубренной штукой он уложит десятерых.
Но еще не сейчас. Старик болтлив — если подождать немного, то даром выложит все то, что предстояло вызнать Инебелу за немногие часы, оставшиеся до неведомого пока «гнева божьего».
Однако старик в присутствии Чапеспа был не расположен словоблудствовать с новоиспеченной жрицей. Он еще раз, уже не целясь, поддал по лежащему телу бывшего маляра и скороговоркой проговорил:
— Раб нескладный, не моги подымать голову и в подземелье ходи окоротясь, аки ящер четырехлапый. Путь твой будет от развилки ходов влево, до колодца. Приняв полные ведра, опорожняй их и заменяй пустыми. В правый ход, что бережен должен быть по сыпучести хлипкой, не суйся — зарубят. Ну, пошел.
Инебел схватил ведра за плетеные дужки, пополз к развилке. Что они, все втроем тут торчать намерены?
Немой снова что-то промычал. Похоже, соображал он тут лучше других и был наиболее опасен — как бы не заметил чего… Но тут из правого хода вынырнул согбенный раб с полузакрытыми глазами — двигался, как не проснувшийся. Инебел принял у него ведра и неуверенно ступил в темную щель левого коридора.
Колодец. Где же он? А если прямо под ногами? Темно. Еще провалишься, и тогда гадай — звать на помощь или нет? Похоже, рабы тут безгласны. Вода плескала ему на ноги, и он не знал, виден ли он еще тем, что остались позади. Оглянуться боялся.
Ход вдруг расширился и посветлел. Это не было убогое желтоватое пламя смоленой головни — голубой призрачный свет сеялся сверху, серебря плитняковые стены, по которым, журча, сбегала вода. Свет пробивался сверху, и прямо под светоносным колодцем чернело жерло провала. Вода, змеившаяся по стенам, гулко падала вниз. Инебел слил ведра, по шуму понял: глубоко. Поднял голову — сиреневатое вечернее небо было затянуто сеткой каких-то паутинных вьюнков.
Он приподнялся на цыпочки, опираясь на изрезанную уступами стену, дотянулся до свисающих стебельков. Дернул — влажная зелень потрясла ощущением чего-то живого, земного, несовместимого с этой могильной чернотой.
— Заснул, раб? — донесся далекий зудящий голосок.
Он бросился назад, уже не опасаясь провалов и колодцев. Завидев маяту факела, согнулся, спрятал глаза.
— Бегай проворней, раб! — подражая визгливым интонациям старейшего, прикрикнула Вью. Девочка входила во вкус.
— Погоняй, погоняй, — проскрипел старейший. — Загнать не бойся — когда свершится воля Всеблагоспящих, лишние руки больше не понадобятся. Ну, десяток-другой, чтоб мешки ворочать, не более…
Инебел по-прежнему не подымал глаз, но в узенькие щелочки между ресницами вдруг увидел остроконечный листок — в собственной руке!
Согнулся в три погибели, схватил ведра, уже дожидавшиеся своей очереди, кинулся по коридору. За спиной услышал старческий смешок:
— Проворен! Даром послушания наделен, да уж больно нескладен, несуразен для подземелий. Так что…
Юноша подбежал к колодцу, выплеснул воду. Следом за водой осторожно стряхнул с ладони зеленую веточку. Она плавно, точно нехотя нырнула в провал колодца. И тотчас же в черной глубине что-то страшно и хищно плеснуло, словно громадная рыба выпрыгнула из воды навстречу добыче.
Инебел отшатнулся от края.
— Ра-аб! Проворней!
Разошлась Вью. Перед новыми хозяевами выслуживается, чтоб их обоих в этот колодец унесло! Когда ж они уберутся?
Ему повезло, да как — ушли оба жреца, но Вью… она здесь так недавно — что она может знать?
Он обменял пустые ведра на полные, дождался, пока его напарник исчезнет в низком лазе, и взмахнув руками, свалился ничком, — внимательный глаз заметил бы, как сложилось при падении тело: словно согнутая ветвь, готовая распрямиться. Но Вью была невнимательна и до забавного высокомерна, вот только если бы Инебел расположен был сейчас забавляться…
Она подбежала к нему, затопталась на месте, примериваясь, — вспоминала, как это ладно получилось у Неусыпного, когда он привычно поддал рабу прямохонько под ребро. Вью не раз попадало от братьев, злобная была семейка, не случалось дня, чтобы на ком-нибудь не срывали тягучей злобы, копящейся целое утро за утомительно-нудным тканьем.
Так что по собственным ребрышкам помнила — несладко это, когда в самый бочок. Скорчившееся у ее ног тело было недвижно, значит, правду говорят жрецы, что раб — это недоумерший. Может, он и боли не чует?
Она нашла-таки место, куда бить, саданула как следует — удовольствия никакого, только косточки на пальцах заныли от удара. И не потому, что было велено, — за всю муку ожидания еще там, в семье, за весь страх потерять то, что здесь.
— Встань, раб!
Инебел ждал этого, вскочил, но на сей раз осторожно, чтобы поберечь свою голову, и успел — зажал девушке рот, так что она не успела даже вскрикнуть. Он ждал, что она начнет сопротивляться, по меньшей мере вгрызется в руку, зажимающую ей рот, но она обвисла покорно и безропотно — видно, не научили еще, что делать, когда рабы бунтуют.
А может, он — первый, который вздумал бунтовать? Остальных опаивали до состояния гада, промерзшего зябкой ночью, когда тот ни лапами, ни хвостом шевельнуть не может, пока солнышко утреннее от бесчувствия его не отогреет. А он уберегся… вчера. Да неужели — вчера?