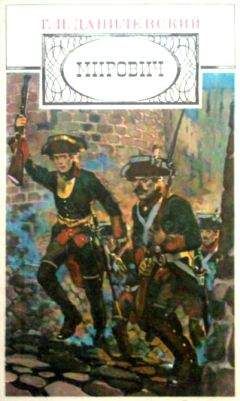Григорий Данилевский - Сожженная Москва
— Да где же их проклятые села, города? — твердил Наполеон, то и дело высовывая из медвежьего меха иззябший, покрасневший нос и с нетерпением приглядываясь в оледенелое окно. — Пустыня, снег и снег… ни человеческой души! Скоро ли стоянка, перемена лошадей?
Рапп вынул из-под бурки серебряную луковицу часов и, едва держа их в окостенелой руке, взглянул на них.
— Перемена, ваше величество, скоро, — сказал он, — а стоянка, по расписанию, еще за Ошмянами, не ближе, как через четыре часа.
— Есть с нами провизия? — спросил Наполеон.
— Утром, ваше величество, за завтраком, — отозвался Коленкур, вы все изволили кончить — фаршированную индейку и страсбургский пирог.
— А ветчина?
— Остались кости, вы велели отдать проводнику.
— Сыр?
— Есть кусок старого.
— Благодарю: горький и сухой, как щепка. Ну хоть белый хлеб?
— Ни куска; Рустан подал за десертом последний ломоть.
Верст через пять путники на белой поляне завидели новый конный пикет, гревшийся у костра близ пустой, раскрытой корчмы, и новую, ожидавшую их смену лошадей. Наполеон, сердито поглядывая на перс-пряжку, не выходил из экипажа. Возок и кибитка помчались далее. Наполеон дремал, но на толчках просыпался и заговаривал с своими спутниками.
— Да, господа, — сказал он, как бы отвечая на занимавшие его мысли, — ко всем нашим бедствиям здесь еще и явственная измена, Шварценберг, вопреки условию, отклонился от пути действий великой армии; мы брошены на произвол собственной участи… И как сражаться при таких условиях?
Возок въехал на сугроб и быстро с него скатился.
— А стужа? а эти казаки, партизаны? — продолжал Наполеон. — Они вконец добивают наши обессиленные, разрозненные легионы. Подумаешь, эта дикая, негодная конница, способная производить только нестройный шум и гам… она бессильна против горсти метких стрелков, а стала грозною в этой непонятной, бессмысленной стране… Наша превосходная кавалерия истреблена бескормицей; пехоту интендантство оставило без шуб и без сапог… все, наконец, голодают.
На лице нового Цезаря его спутники в эту минуту прочли, что голод — действительно скверная вещь. Проехали еще с десяток верст. Вечерело. Наполеон, чувствуя, как мучительно ноют иззябшие пальцы его ног, опять задремал.
— Нет, не в силах, не могу! — решительно сказал он, хватаясь за кисть окна. — У первого жилья мы остановимся. Найдем же там хоть кусок мяса или тарелку горячего.
— Но, ваше величество, — сказал Рапп, — не беспокойтесь, до назначенной по маршруту стоянки не более двух часов. Это замок богатого и преданного вам здешнего помещика… Вонсович ручается, что все у него найдем…
— Черт с вашим маршрутом и замком; я голоден, шутка ли, еще два часа! не могу…
— Но нам до ночи надо проехать Ошмяны…
Наполеон не вытерпел. Он с сердцем дернул кисть, опустил стекло и высунулся из окна. Верстах в трех впереди, вправо от дороги, виднелось какое-то жилье.
— Мыза! — сказал император. — Очевидно, зажиточный дом и церковь. Мы здесь остановимся.
— Простите, ваше величество, — произнес Коленкур, — это против расписания, и вас здесь не ожидают…
— При этом возможно и нападение, засада, — прибавил Рапп.
— Что вы толкуете! Поселок среди открытой, ровной поляны, сказал Наполеон, — ни леса, ни холма! а наш эскорт? Велите, герцог, заехать.
Коленкур остановил поезд и для разведки послал вперед часть конвоя. Возвратившиеся уланы сообщили, что на мызе, по-видимому, все спокойно и благополучно. Возок и кибитка направились в сторону, к небольшому, под черепицей, домику, рядом с которым были конюшня, амбар и людская изба. За домом, в занесенном снегом саду, виднелась деревянная церковь, за церковью — небольшой, пустой поселок. Обогнув дом, возок подкатил к крыльцу. Во дворе и возле него не было видно никого. Стоявшая на привязи у амбара, лошадь в санках показывала, однако, что мыза не совсем пуста.
XLI
В сенях дома путников встретил толстый и лысый, невысокого роста, ксендз. За ним у стены жался какой-то подросток. Одежда, вид и конвой путников смутили ксендза. Он, бледный, растерянно последовал за ними. Войдя в комнату, Наполеон сбросил на подставленные руки Рустана и Вонсовича шубу и шапку и, оставшись в бархатной на вате зеленой куртке, надетой сверх синего егерского мундира, присел на стул и строго взглянул на Вонсовича.
— Кушать государю! — почтительно согнувшись, шепнул Вонсович священнику. Пораженный вестью, что перед ним император французов, ксендз в молчаливом изумлении глядел на Наполеона, с которого Рустан стягивал высокие, на волчьем меху, сапоги.
— Чего-нибудь, — продолжал Вонсович, — ну, супу, борщу, стакан гретого молока. Только скорей…
— Нет ничего! — жалостно проговорил ксендз, сложив на груди крестом руки.
— Так белого хлеба, сметаны, творогу.
— Ничего, ничего! — в отчаянии твердил помертвелыми губами священник. — Где же я возьму? Все ограбили сегодня прохожие солдаты.
— Что он говорит? — спросил Наполеон. Вонсович перевел слова священника.
— Они отбили кладовую, — продолжал ксендз, — угнали последнюю мою корову и порезали всех птиц… я остался, как видите, в одной рясе и сам с утра ничего не ел.
— Но можно послать на фольварк, — заметил Вонсович.
— О, пан капитан, все крестьяне и мои домочадцы разбежались, и, если бы не мой племянник, только что подъехавший за мной из местечка, я, вероятно, погиб бы с голоду, хотя не ропщу… О, его цезарское величество, я в том убежден, со временем все вознаградит…
Вонсович перевел ответ и заключение ксендза. Наполеон при словах о грабеже и о том, что нечего есть, нахмурился. Но он сообразил, что делать нечего и что таковы следствия войны для всех, в том числе и для него, и решил показать себя великодушным и выше встреченных невзгод. Милостиво потрепав ксендза по плечу, он сказал ему, через переводчика, что рад случаю видеть его, так как в жизни встречает первого священника, который так покорен обстоятельствам и не корыстолюбив.
— Да, — вдруг обратился он по-латыни непосредственно к ксендзу, у нас есть общий нам, родственный язык; будем говорить по-католически, по-римски.
Священник в восхищении преклонился.
— Я никогда не расставался с Саллюстием, — сказал Наполеон, носил его в кармане и с удодольствием прочитывал войну против Югурты. А Цезарь? его галльская война? мы тоже, святой отец, воюем с новейшими дикими варварами, с галлами Востока… Но надо покоряться лишениям.
Говоря это, Наполеон прохаживался по комнате. Радостно изумленный ксендз и свита благоговейно внимали бойким, хотя и не вполне правильным римским цитатам нового Цезаря. В уютной комнате кстати было так тепло. Вечернее же солнце так домовито и весело освещало скромную мебель, в белых чехлах, гравюры по стенам и уцелевшие от грабителей горшки цветов на окнах, что всем было приятно. Наполеон еще что-то говорил. Вдруг он, нагнувшись к окну, остановился. Он увидел на дворе нечто, удивившее и обрадовавшее его. В слуховое окно конюшни выглянула пестрая хохлатая курица. Уйдя днем от грабителей на сенник, она озадаченно теперь оттуда посматривала на новых нахлынувших посетителей и, очевидно, не решалась в обычный час пробраться в разоренный птичник на свой нашест, как бы раздумывая: а что как поймают здесь и зарежут?