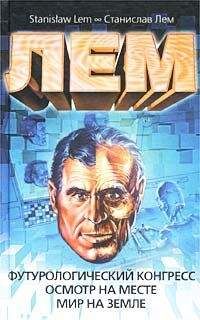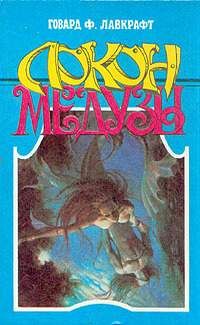Станислав Лем - Осмотр на месте
— После философов и правоведов я хотел бы предоставить слово художнику, — ответил я и включил кассету с Шекспиром. Что-то неотчетливо зашуршало, а потом раздался голос:
Чьей волею из праха я восстал
Без тяжкой, косной плоти? И куда
Я призван? Чувствую, что этот черный
Квадрат — не крышка гроба моего
И не окно, распахнутое в ночь,
За коим мокнут под дождем деревья,
И значит, я не на земле английской,
Но также и не в ангельских краях.
Хотя мой дух, как прежде, мне послушен,
От груза тела я освобожден —
Лишь речь да слух еще мои. Итак,
Не Всемогущество меня призвало,
Чтоб я Его узрел лицом к лицу,
Во всеоружье чувств. Я воскрешен
Неведомым и колдовским искусством,
И ныне здесь, незрячий и нагой,
Вновь обретенной мыслью трепещу я:
Кто совершил все это и зачем?
Кто пожелал, чтоб я, как невидимка,
Невидимую челядь забавлял
Посмертным и постылым стихотворством
И раздувал чужой беседы угли?
Я, воскрешенный, знаю и не знаю,
Кто я такой и почему я здесь,
Я, умерший от опухоли Вилли,
Фигляр, комедиант, рифмач, который
По смерти вырос выше королей,
А здесь в темнице некой заточен, —
Но не в почтенной Тауэрской башне,
А словно бы в бочонке из-под пива,
Что пробегает Млечными Путями
Мильярды миль, понурых и пустых,
И скрепами незримыми скрежещет
По гравию необозримых звезд.
Но более страшит меня не это,
А собственная внутренность моя:
Всеведущий таится там паук
И паутину ткет словес неясных
О битах, кодах, эстрах и спинорах.
Как мог узнать я, из каких частей
Составлен воздух, что такое фото
И тысячу подобных пустяков?
Я знал лишь о Фальстафе, а теперь
Узнал, что гем окрашивает кровь
И что мое посмертное уменье
Нанизывать слова на нитку ритма,
Унылого, как маятник часов, —
Внутри меня, но все же не мое.
Как если бы мой голос исходил
Из спрятанной шкатулки музыкальной,
Чьи зубчики толкает страх болтливый —
Старухи Смерти вечный ухажер.
— Господин Шекспир, успокойтесь. Вы всего лишь макет. Но может быть, кто-нибудь из вас, господа, объяснит это лучше? Может быть, вы, лорд Рассел?
Бертран Рассел, к которому обратился с этими словами адвокат, действительно разъяснил кассетному Шекспиру, откуда он взялся, как это делается и для чего. Изложение было вполне популярное и довольно пространное, и все же я сомневался, сможет ли Шекспир, прослушав элементарный курс кибернетики и психоники, разобраться во всем этом. Никто не просил слова, когда Рассел закончил. Все молчали, пока наконец не отозвался проинструктированный:
Милорд, я понял, мы — фантомы оба.
Тут нет чудес, и ни к чему они:
От роли Лазаря Господь нас сохрани,
С червивым брюхом вставшего из гроба.
В машину ввергнут я, в которой жизни нет
И смерти нет, — tertium datur[54], лорды!
Незримых шестеренок зубья твердо
Удерживают призрачный скелет.
Вы научились, развлеченья ради,
Бесплотных собеседников плодить.
Я — третье между «быть или не быть»,
Всего лишь тень, с Натурою в разладе.
Однако мой вы пощадили прах,
И я на вас проклятий не обрушу.
Но тот, кто из костей достал бы душу,
Чудовищем остался бы в веках.
Как шут, я забавлял толпу когда-то,
Но после смерти этот крест нести
Не в силах я. Позвольте мне уйти
В небытие, откуда нет возврата.
Я долее внимать вам не хочу
И в рифму отвечать на ваши речи,
Иначе не стихами я отвечу,
Но зверем недобитым зарычу.
Ничем не разнятся восторги и стенанья,
Эдемский сад и адская жара.
Пусть длится в кости вечная игра —
Я выбираю вечное молчанье.
IV. Осмотр на месте
Грязь, болота, трясины, хлюпающие провалы ям, гнилостные испарения, пузырьки газа, иссиня-бурый туман, от которого першит в горле — вот оно, место моего курдляндского приземления, вот куда меня занесло через 249 лет, как показывает счетчик. Облетев на приличном расстоянии сияющую Луну, которая когда-то так меня одурачила, я направился к северу, туда, где земля зеленела у кромки полярного снега, оставив далеко за кормой серую сыпь городов. Когда я в первый раз спустился по трапу, то чуть не утонул в грязи — влажный, искрящийся травяной ковер оказался попоной топи. Чего-либо так заляпанного грязью, как корма моей ракеты, я, пожалуй, еще не видывал. О привале и думать нечего. Придется, похоже, выдолбить пирогу, а еще лучше — встать на водногрязевые лыжи. Ночью — бульканье, хлюпанье, всплески, чмоканье болотных газов. А уж воняет! Некуда было так спешить.
Ракета постепенно погружается в липкое месиво. По моей прикидке, утонет по самый нос всего за неделю. Надо начинать ускоренную разведку. Но как ее ускоришь в таких условиях? Считая вчерашний день нулевым, сегодняшнему присваиваю номер первый. Обратно вернулся перемазанный как сто чертей, зато видел курдля. А может, это был Куэрдл или QRDL. Было слишком темно, даже в поле зрения ноктовизора, чтобы толком разобраться. Чудовищная тварь. Он все проходил и проходил мимо меня и никак не кончался, хотя все время шел рысью. Что ему грязь, если у него ноги как башни. Я оценил его длину в четверть английской мили — или, пожалуй, морской мили, учитывая водянистый характер местности. Выходит, я видел натурального курдля. Курдли существуют. Это животные, а не какие-то там градозавры. Но может ли мое наблюдение служить доказательством? Не затащу же я курдля на борт ракеты. Надо подумать. Завтра следующая разведка — дневная.
День второй. На этой планете творятся невероятные вещи. Вернее, омерзительные. Я еще не оправился от потрясения. Я собственными глазами видел, как большой курдль подошел к курдлю поменьше — это было в чистом поле, довольно даже сухом, заросшем рыжеющей травкой, в какой на Земле водятся рыжики, — так вот, значит, подбежал он к этому малышу, спокойно жующему травку, тщательно обнюхал его, и тут великана вырвало; тогда тот, маленький, припал сперва на передние, потом на задние ноги, в точности как верблюд (но размерами больше кита), съел все это, облизнулся и завыл. И завыл он так дико, глухо и так тоскливо, так безнадежно и мрачно, словно голосили эти вечно пасмурные просторы, — у меня просто мороз прошел по телу, еще переполненному омерзением. Тогда тот, что побольше, схватил коленопреклоненного за ухо и, оборвав его одним щелчком пасти, начал жевать, методично чавкая и двигая губами вверх-вниз, как корова, обгрызающая молодые побеги. Потом надгрыз тому второе ухо, но сразу же выплюнул, словно оно ему не понравилось. Тогда малыш, припавший к земле, зашевелился. Его явно тошнило. Курдль и курдленок, глядя друг другу в стеклянные вылупленные глаза, зарычали так, что у меня волосы стали дыбом. Затем поднялись, стали рыть землю задними ногами и разошлись без спешки в разные стороны. Что бы это значило? Я осторожно приблизился к истоптанному месту с поистине колодезными ямами — следами их ног; ноги у них расширяются у пятки, и каждая шире небольшого домика. Из зеленоватой лужи величиной с пруд тишком, молчком вылезали низкие, сгорбленные существа, вполне человекоподобные двуногие, но сзади у каждого имелась лишняя пара куцых конечностей, по которым стекала не то чтобы вода, а, скорее, жижа; о ее происхождении я предпочел не задумываться. Они были явно знакомы с цивилизацией, потому что носили одежду, и притом двубортную, с пуговицами спереди и сзади, с широкими хлястиками, скроенную на манер реглана; а их добавочные отростки были вовсе не ноги, но полы этой странной одежды, напоминающей сшитый из двух половин фрак. Я принял их за конечности лишь потому, что они мешкообразно оттопыривались и размеренно покачивались на ходу; но потом кто-то из них сунул туда руку, и в ней появился бурдючок, который был немедленно приложен ко рту. Значит, это у них карманы для еды и питья. То и дело прикладываясь к своим бурдючкам, они понабирали в мешки водорослей, плавающих в луже, затем один, повыше ростом, что-то прокашлял, все выстроились в длинную шеренгу, и откуда-то — понятия не имею откуда — появился письменный стол. Должно быть, складной; видимо, кто-то нес его на спине, как рюкзак. Тот, повыше, уселся за стол, и образовавшаяся на моих глазах длинная очередь начала медленно продвигаться вперед; проходя перед сидящим — каким-то чиновником, в этом я уже не сомневался, — каждый поочередно предъявлял ему белый треугольник, зажатый в руке, то ли удостоверение, то ли просто карточку из плотной бумаги или пластика. Чиновник восседал, широко расставив согнутые назад колени; он вел себя со всеми одинаково: смотрел на карточку, потом на лицо проверяемого и наконец заглядывал в небольшую, но очень толстую, мокрую, грязную книгу или тетрадь, водя пальцем по страницам, как если бы искал там нужный номер. Затем брал треугольник, клал на стол, шлепал печатью и издавал отрывистое покашливание, а я не мог взять в толк, как это он может делать все сразу: ведь чтобы листать книгу, требовалась третья рука, а у него, безусловно, были всего лишь две; но тут я заметил, что сидит он не на стуле, а на одном из своих собратьев, и тот, согнувшись под тяжестью чиновника, поминутно подсовывает ему какой-то список или каталог. Шло это довольно гладко, но у меня занемели ноги от стояния в неудобной позе за кучей грязи; наконец проверка кончилась, стол со сложенными ножками взвалили кому-то на спину, все построились в колонну по трое и зашагали к линии горизонта, туда, где синел густой лес. Я все это время сидел пригнувшись, не решаясь высунуть носа. Вернувшись в ракету, долго мылся, чистил и драил одежду, особенно обувь, и размышлял об увиденном.