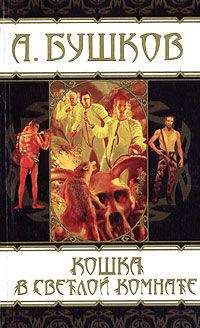Александр Бушков - Кошка в светлой комнате (сборник)
Тройка «Сарычей», удаляясь от зрителя, взмывает в небо, самолеты превращаются в черточки, черточки – в точки, и точки тают в безмятежной лазури.
Леня Шамбор, весело стуча кулаком по крылу своего «Кончара», что-то заливает ему, Панарину.
Идет на посадку двухместный «Аист», марево раскаленных выхлопных газов размывает четкие контуры крыльев и капота.
Клементина у кабины «Сарыча» примеряет шлем. Шлем ей велик, и Клементина смеется (снимал Леня).
Крупный план – стучит на столе метроном, размеренно ходит вправо-влево блестящая стрелка.
Сенечка Босый озабоченно проверяет парашют. Брюс с гитарой пародирует какую-то эстрадную знаменитость, вокруг веселятся механики.
Хмурый Панарин изучает карту Вундерланда. К зданию дирекции, удаляясь от оператора, уходит Адамян.
Рассаживаются по лимузинам члены комиссии.
Станчев со Стрижом играют в шахматы.
Клементина, балансируя раскинутыми руками, с комическим ужасом на лице идет по высокому и узкому бетонному поребрику (снимал Панарин).
Взлетает звено «Кончаров».
Профессор Пастраго с барбадосским орденом на груди откупоривает бутылку шампанского.
Клементина у магазина «Молоко» (снимал Панарин). В небо взмывает «Кончар».
Панарин остановил проектор, изображение замерло, – красивый, гордый самолет.
Панарину тяжело было решаться. Невыносимо тяжело. Все равно что убиваешь друга, все равно что стреляешь себе в висок. Наверное, нужно как-то иначе, подумал он. Но как? Наверняка можно по-другому, но мы не умеем, а не ошибается лишь тот, кто ничего не делает…
Панарин сидел в темной комнате, смотрел на застывший на экране самолет и в который уж раз повторял про себя одну и ту же фразу – из речи, что произнес Джон Кеннеди, вступая на пост президента:
«Не для того мы здесь, чтобы клясть тьму, а для того, чтобы возжечь светильник».
Честное слово, в этом был смысл.
Он снял трубку и набрал номер.
– Шамбор слушает, – раздался возбужденный Ленин голос.
– Ну как?
– Мы с дедом готовы. Брюс тоже.
– Не передумал?
– Нет.
– Тогда по расписанию, – сказал Панарин. – Поехали!
11А может это совесть, потерянная мной?
А. Вознесенский
Фредерик Дуглас Брюс, весьма и весьма отдаленный, но все же потомок древних шотландских королей, сноровисто работая коротким копьевидным ломиком с резиновой рукояткой, крушил пульты Главной Диспетчерской.
Он трудился споро, без излишней нервозности, как десять лет назад на пылающей датской буровой платформе, но и чуточку торопливо все же – в забаррикадированную дверь давно молотили чем-то тяжелым, и нужно было поторапливаться.
Трещали синие разряды, мерзко пахло горелой изоляцией, хрустело, дымило, дребезжало, на стене вразнобой мигали разноцветные лампы и надрывались звонки ничего не соображавших автоматов контроля. Брюсу было безмерно жалко ломать тонкие и умные приборы, которые он знал насквозь и любил, но он верил, что сейчас иначе нельзя.
Все. Хватит, пожалуй. Брюс швырнул лом в экран лазерного локатора, смахнул пот со лба, медленно стянул оранжевые резиновые перчатки. Смотрел в окно, на синие вершины. Затрещали петли, дверь рухнула, разметывая баррикаду из столов и кресел. Брюс сказал несколько слов в маленькую рацию, обернулся к направленным на него стволам. Пока к нему шли, он стоял и улыбался усталой и гордой улыбкой человека, добросовестно и вовремя выполнившего трудную нужную работу.
12Перестаньте, черти, клясться
на крови…
Б. Окуджава
Они бежали вдоль двойной шеренги истребителей, бросая в воздухозаборники изготовленные из зондов магнитные мины, которые сразу же прилипали где-то там, в теплой темноте. Время от времени останавливались, оборачивались и стреляли по преследующим их безопасникам.
Леня, Ленечка Шамбор, любимец молодых поварих и ученых дам средних лет, несмотря на всю осознаваемую им серьезность ситуации, веселился от души, сшибая пулями фуражки с голов преследователей. В голове у него шалыми мартовскими зайцами плясали кадры из вестернов – такая уж это была натура.
Шалыган, он же бывший генерал-лейтенант аэрологии, он же бывший пилот из легенды – Ракитин, наоборот, относился к перестрелке чрезвычайно обстоятельно и серьезно. В руке у него был именной пистолет с серебряной пластинкой на рукоятке, врученный некогда самим маршалом Н. Когда арестовали Светлану и маршал не помог, Ракитин сгоряча хотел было выбросить пистолет в сортир, но решил подождать, и правильно сделал – буквально через три дня маршал Н. получил высшую меру социальной защиты как агент семи империалистических разведок и трех эмигрантских подрывных центров.
Перед глазами у бывшего Ракитина стояла та ночь, перевернутая квартира, равнодушные лица конвоиров, свое собственное унизительное бессилие, бледная Светлана и откровенно раздевавший ее взглядом Лев Шварцман, карающий меч и сокол.
Сейчас у всех у них, тех, что бежали следом, были лица Левки Шварцмана. Плача от радости, Шалыган стрелял и хрипло рычал всякий раз, когда попадал и перебегавшая вдали фигурка застывала на земле.
На горячей бетонке лежал капитан Окаемов, зажав обеими руками живот. В животе раскаленным угольком засела пуля из шалыганова пистолета. Пуля была неправильная, по высшей справедливости она должна была угодить в кого-нибудь из тех, карающих мечей и соколов, что частью расстреляны, а частью доживают на хорошей пенсии – в любого из них, но не в Окаемова, которого отец зачал на радостях, вернувшись из тех краев, где в вечной мерзлоте лежат мамонты и люди, и мамонтов мало, а людей настолько много, что некоторые в них не верят (но там нет ни маршала Н., ни Светланы Ракитиной, а где они – дьявол весть).
Капитан Окаемов лежал и тихо плакал от боли и от растерянности: он никак не мог понять, в голове не укладывалось – за что его? Почему именно его, почему вообще это происходит? Он беззвучно шевелил губами, никто в суматохе не обращал на него внимания, но ему-то казалось, что он кричит во всю глотку волевым командирским голосом: «Прекратить огонь!».
Выстрелы в самом деле смолкли, и капитан Окаемов, не понимая, что они смолкли для него одного, удовлетворенно улыбнулся, умирая.
В здравом рассудке Шалыган никогда не поступил бы так, но он уже не был собой, безумие, замешанное на долголетней боли, ненависти и страхе, поднялось из глубин сознания и залило череп, как заливает вода тонущий корабль. Генерал-лейтенант аэрологии Ракитин, лауреат и кавалер, талант, работяга и удачник, окончательно перестал существовать. Остался один Шалыган.
Пуля попала ему в грудь. Леня подхватил старика под мышки и волоком оттащил за истребитель. Нагнулся.