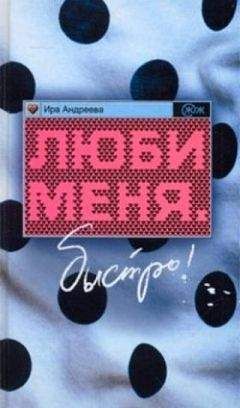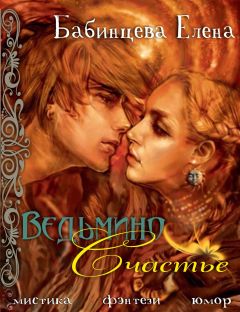Наталья Суханова - Весеннее солнце зимы. Сборник
Ибо Альберто — из тех странных художников, что знают гораздо больше, чем дано им поведать.
УЧИТЕСЬ ВИДЕТЬ СНЫ
По нескольку раз в день Берки ковыляет к саркофагу. Ему все кажется, что Филиформис[1] не только убил ее, но продолжает разрушать уже мертвое тело. Бальзамированное, оно все же меняется: глубже западают глаза и губы, резче обрисовываются нос и подбородок.
Потом Берки поднимается в биокамеру. Он изобретает все новые и новые приспособления, чтобы сохранить Нитевидное. Эта уже привычная работа не мешает Берки думать.
Иногда он представляет, что во всей Вселенной их только трое: Нитевидное вещество, Марта и он. Во всей Вселенной, во всей черной пустоте — три возможности, бессильные продолжиться, осуществиться: женщина, уже мертвая, уже оборвавшая цепь поколений, он, киборг, искусственное существо, и Филиформис — иная форма, иной принцип существования, только еще намеченный, нестойкий, готовый уйти в небытие. Во всей Вселенной — только три пробы, осужденные на смерть за неимением среды, за неимением себе подобных.
Так подшутить мог бы, вероятно, бог-дьявол, упорно противостоящий вселенскому превращению бессмысленного в осмысленное.
Или же Берки представляет, что вот труп Марты, Филиформис и он вернутся в Солнечную, а Земли вдруг нет или нет почему-нибудь человечества: случайная инопланетная инфекция, неуправляемость биосферой, космическая катастрофа, мало ли что. И кому тогда нужно Нитевидное вещество? Кому тогда нужен и он, Берки, больше человек, чем те, что во плоти и крови, но неспособный начать сначала, дать жизнь новому роду? Только Марта, может быть, еще нужна была бы, если осталось хоть несколько человек. А он отдал ее на убийство, потому что людям нужен Филиформис. Но что, если человечества уже нет? Если от человечества только и остались, что труп, да еще он, киборг, — механический отросток человечества?
Все это думает Берки, пока проверяет режим биокамеры. Филиформиса уже так мало, что какие там опыты — сберечь бы то, что осталось… Выправляя режим, производя расчеты, Берки пытается иногда понять, что, собственно, мешает ему уничтожить Нитевидное. Об этом он размышляет давно, еще с тех пор, когда была жива Марта… Они не опасны, подобные мысли у Берки. Как нет ничего страшного и в его размышлениях о возможных катастрофах — просто маленький импровизационный комедиум на дому: «Что было бы, если…» Берки прекрасно знает, что настолько неспособен причинить какой-нибудь вред Филиформису, что даже и удерживать не надо. Просто Берки хочет кое-что понять. Понять, почему он не может сделать недозволенного. Что такое, хочет он знать, его воля, которая сильнее, крепче самых яростных мыслей, глубже скорби, сильнее равнодушия? Что это такое, хочет он знать. Что такое его воля? Где нашел его создатель, его отец Адам, этот принцип, этот импульс? Или он слепо копировал слепую природу?
* * *
С тех пор, как умерла Марта, я уже не могу избавиться от привычки смотреть на себя со стороны. Чем я, Берки, лучше бедного тела Марты, чтобы говорить о себе: Я есмь, Я чувствую? Откуда вообще эта форма бытия, когда каждая частица на себе, через себя должна осмыслить мир? А мне иногда думается, глядя на Марту: «Я умерла, Я лежу, Я меняюсь, Я лишена мысли… Я… Я… Я… Тысячи центров мироздания, вокруг которых вертится Вселенная…
Ах, Берки, стоят ли все твои размышления жизни одной этой женщины? Единственный человек, любивший тебя, мертв… И ты действительно так предан человечеству, ты, побочный его сын?.. Что и говорить, ты не поколеблешься до конца! Но такое ли уж это преимущество — железный каркас воли, железный каркас мысли?
Ты не сделал единственного, что могло ее спасти, — не выключил системы, поддерживающей Филиформис, не катапультировал его. Ты и человечество были против Марты, против одной особи, которая умирала. Это та самая восхитительная в своей трагичности драма, когда сталкиваются космические категории — человечество и человек… А между ними, прости меня, Берки, между ними… на этот раз… как судья, как посредник, — киборг, существо в принципе бесполое, но ощущающее себя мужчиной… Ха-ха-ха, Берки, это же смешно… Подумай, это же забавно… Не правда ли?.. Нет-нет, не бойся, ты не сходишь с ума — ты просто рассматриваешь со всех сторон сложившуюся ситуацию.
Но не пора ли закрыть камеру? Не слишком ли долго, «хозяин», находишься ты здесь? Возможно, Нитевидному не нравится твой запах, как не нравился запах Марты…
* * *
Я гляжу на мертвое лицо Марты и пытаюсь разглядеть в нем черты той девушки, которая явилась в наш институт много лет назад.
Та, юная, Марта удивительно напоминала ангела, что стоит за спиной вдохновенного старца в картине Рембрандта «Святой Матфей». Крылья ангела сложены кое-как, рот приоткрыт, глаза прикованы к листу бумаги, на котором пишет старик. Матфей уверен, что это ангел внушает ему слова. Ангел же не сомневается, что слова сами собой рождаются на бумаге. Он тут не автор, он благодарный свидетель — весь в сопричастности этому чуду. Он не диктует, не внушает, но без его веры, без его восторга чудо не могло бы свершиться…
Впрочем, проходили дни, недели, никаких чудес, увы, не случалось, а восторженное внимание на лице нашей новой сотрудницы оставалось тем же. И я начинал понимать, что, случись ей до самой смерти не дождаться чуда, — и она, не терзаясь, отложит встречу с ним на будущее, на чью-нибудь другую, не свою жизнь.
Вот это-то, пожалуй, и раздражало меня больше всего — настолько прочная уверенность в чуде, что она могла себе позволить роскошь быть покладистой: не сегодня, так завтра, не сейчас, так через тысячу лет, не с ней, так с кем-нибудь другим… Меня бесила ее беспечность! Словно Случай, придя, обязательно доложится, кто он такой, а если на него все-таки не обратят внимания, придет обязательно еще, как покорный слуга, который приходит раз за разом, пока его наконец не заметят. Меня это выводило из себя. Я-то ведь не считал, что чудо обязано случится, как предусмотренная заведенным миропорядком награда. Я делал все, чтобы встретить, не пропустить его! И все-таки был готов к тому, что его может вообще не случиться — необходимого мне чуда — ни при моей жизни, ни в следующих веках. Никогда.
У меня было ощущение, что при всей ее восторженности, а может быть именно вследствие ее, Марта благодарно удовольствуется и самым маленьким чудом. Мне же нужно было одно-единственное, решающее…
Но если быть совсем честным, не только это сердило в ней. Ее предупредительность — вот что казалось несносным. Как ребенок, старающийся загладить несправедливость взрослых, она то и дело подчеркивала свое преклонение перед умом киборгов. Особенно пылким выглядело её преклонение передо мной. Она будто ожидала от меня того самого чуда, для встречи с которым сама не прилагала особых усилий. Тебе, мол, больше дано, с тебя больше и спрос. Больше дано! Словно способность прыгнуть на несколько метров дальше, чем другие, чего-то стоит, пока впереди все еще пустота…