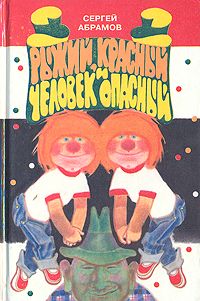Наталья Галкина - Пишите письма
– Значит, все, что вы говорите, до словечка слышно вашим соседям?
– Ничуть не бывало, – отвечал Наумов, чихая, – слышимость в одну сторону, я их слышу, они меня – нет.
В комнате слева били посуду, в комнате справа, кажется, дрались, кто-то падал. Пришел Косоуров, видимо, с пробежки, в легкой куртке.
– Здравствуйте, вестница, почтовая ангелица.
– Уже нет, я теперь ангелица запаса, от меня вестей не ждите, уволилась.
– Вы гляньте, что она мне вернула. Вместо начатых две упаковки целехонькие.
– А те куда делись?
– Выпить было собралась, да помешали.
– Бог спас, стало быть, – сказал Косоуров. – Рюмочку не нальете? Меня спасал не единожды.
– Остатки перцовки.
Наумов налил: себе наперсток, Косоурову стопку.
– Меня любимый человек прогнал, – сказала я. – А я жить без него не могу. Налейте и мне.
– Вот как, жить не можете?
– Нечего добро переводить, – с этими словами Наумов налил себе наперсток, мне наперсток, Косоурову стопочку.
– Иногда у человека есть пределы… – начала было я, но Косоуров прервал меня.
– Да полно, какие пределы. У человека гораздо больше возможностей, чем принято считать. Узнавши после десяти лет лагерей и тюрем, что выхожу на волю, я из своей шарашки до начальственной конторы по северному морозцу норильского характера сто километров на лыжах прошел. Спешил, не хотел лишних полторы недели оказии ждать. Отпустили меня легко: подумаешь, большое дело, не дойду, замерзну, – туда и дорога. Шел, ел снег, ложился, засыпал, тут же вставал, смотрел на звезды, шел дальше. Дошел, как видите. Ваши, дорогая моя, таблетки для меня смеху подобны. Когда тебя десять лет убивают ежесуточно по двадцать четыре часа то так, то эдак, в вони, грязи, голоде, унижении нечеловеческом, тонкость натуры, знаете ли, пропадает. Мне трудно представить, что можно пытаться покончить с собой из-за несчастной, так сказать, любви.
– У каждого свой опыт. Моя смерть была быстрая, тут же, с ходу, на лестнице, после его слов. Дальнейшее можно считать смертным сном. Не смотрите на меня с высокомерием претерпевшего перед неразумным кроликом.
Дым из-под плинтусов повалил с особой силою, обе загулявшие компании запели (разумеется, друг друга не слыша) одну и ту же песню с отставанием на полкуплета, по-разному фальшивя.
– Мне говорили, – сказал Наумов, – что в шарашках работали то на госбезопасность, то на войну.
– Конечно, – отвечал Косоуров, – на что вся страна, на то и мы. Я все собирался от работы в шарашке отказаться, да слабо мне было.
– Что ж, – сказал Наумов, – Господь и намерение целует.
Тут в комнату в незапертую наумовскую дверь вломились два делегата, левый и правый, разной степени алкогольной интоксикации, и стали звать Наумова каждый в свою компанию обмывать литературные успехи. Наумов отказывался. Нехорошо, старик, задаешься, замыкаешься в себе, не отрывайся от собратьев по перу, как это ты не пьешь? Вон рюмашки на столе, неужели ты нас не уважаешь?
Я ушла, Косоуров с Наумовым нагнали меня на улице. -…А дальше Фауст из рассказа, – говорил Наумов, – и говорит, мол, все мы исходим из предпосылки, что каждое событие имеет причину, а также само может являться причиною и порождать следствие. То есть будущее так же неизменимо, как прошлое, предопределено, стало быть, уже существует, но невидимо. Вот ведь, право слово, сразу видно, что немец написал! Просвещенный, талантливый, но регламентированный невесть чем. Я тут же вспомнил одну работу митрополита Дмитровского, Трифона Туркестанова, “Зарождение зла”. Хорошо портрет его кисти Корина помню. Владыко Трифон утверждал: в том грех первородный Адама и Евы состоит, что предпочли они свободному развитию сил духовных физическое питание плодами известного сорта, подчинили свою породу внешним материалистическим влияниям, закон свободы променяли на закон механической причинности…
У меня слезы полились, Косоуров посмотрел на меня искоса.
– Вы, говорят, стихи теперь пишете?
– Пишу…
– Прочтите что-нибудь.
– Как, вот тут, на улице, в снегопаде, стихи читать?
– Мне Гумилев на шпалах лагерной узкоколейки читал, – и ничего.
– Да не был Гумилев в лагере. Его здесь расстреляли, то ли у канатной фабрики, то ли во дворе, то ли в Шувалове.
– Мне не Николай Степанович стихи свои читал, а Лев Николаевич, сын его.
– Можно, – всхлипнула я, – я вам в другой раз прочту?
– Да можно, можно. Пишете, и пишите, чем чужое снотворное-то жрать. Гадость какая. Всем грешно, поэту тем более. Вот когда я изучал пыль Туркестана…
Наумов поймал такси, они заплатили шоферу, затолкали меня в машину, отправили домой.
И началась другая жизнь. Оказалось, что стираются из памяти черты любимого лица, забываются ужимки, манера смотреть, жесты. Но состояние счастья снилось мне иногда, забыть его было невозможно.
Уронив в Мойку рулон своих работ по живописи, я получила еще одну двойку и оставлена была на второй год с заданием на лето, даже количество этюдов было оговорено. Думаю, в историю с уплывшими работами никто не поверил.
Хороший знакомый родителей, акварелист З., договорился с соседкой своей постоянной хозяйки в Старой Ладоге, что смогу я жить у нее в комнатке за печкой за небольшую плату; мне было все равно, куда ехать, я собрала рюкзак, взяла в руки старый, видавший виды этюдник и к вечеру, обогнув крепостную стену, вышла к мосткам, где ждала меня лодка с перевозчицей.
Течение Волхова было сильным, вода холодна, трава зелена. З. с женою стояли на том берегу, махали мне. Моя хозяйка постелила мне сенник, угостила спеченным к моему приезду пирогом из хлебного мякиша с рыбою, уснула я мертвым сном впервые за последние месяцы, и во сне возник пастух, живший за горою Туран.
Он не был похож на чабана, на чьей кобылке я каталась под енисейскими облаками. “Абалаков, Абалаков, тебе письмо!” – кричал примчавший из села почту шофер, и я ждала, что сейчас выйдет из-за горы альпинист моих сновидений; но вышел битый жизнью слепой на один глаз (“в левом глазу темна вода разлилась”) человек лет пятидесяти с лишним, ведя под уздцы рыжую худую лошадь. “Ну, пляши, Халда, пляши! – сказал он ей. – Нам весточку притаранили незнамо откелева. Может, с того света от сродного брата? Мы с ним в младые лета на вольных хребтах орехи делали”. Конверт сунул он в карман надетого на застиранную майку расстегнутого жеваного пиджака. На шее у него болтался сверкающий военно-полевой бинокль.
– Какая у вас лошадь рыжая! – сказала я. – Симпатичная. Только худая.
– Чего это худая? С какого перепугу? Вот в апреле-мае – да! Каждый год картовной ботвой отпаиваю тебя, Халда, когда тебя весна берет. Вот тебя, девка, видать, тоже весна берет, ты рыжая да тошшая, кто б тебя к картовной ботве приохотил, за милую малину бы ела, в тело бы вошла.