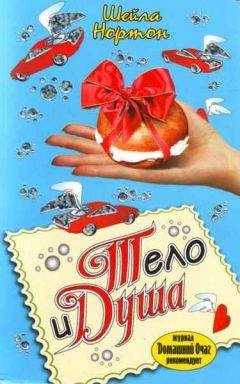Андрей Толкачев - Галактика 1995 № 3
— Кормежка несытная, — буркнул Заруцкий.
— Хочешь сказать, Иван Мартынович, казаку правое русское дело не дорого, ему, молодцу, привычней безоружных людей грабить.
— Не любишь ты казаков, Ляпунов!
— Полюблю, коли будет за что.
Князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой держался от обоих правителей Земщины особняком. Первый воровской боярин, он был рода древнейшего, потому и в правительстве получил первенство. Пребывая в Ополчении, он понимал, что от служения Вору уже отмылся, но будущее России все еще было во мраке, и князь не спешил со своими хотениями. Ему было удобно, что всем заправляет выскочка Ляпунов. Правда, кипучесть рязанца раздражала князя, щепетильная честность — приводила в бешенство. Но не было бы Ляпунова, пришлось бы самому урезонивать казаков. Народу что казаки, что поляки, если заявились — будет грабеж.
19
От самого ли Заруцкого, из лагеря ли Трубецкого, а, может, коварством «близких» людей Прокопия Петровича, но Гонсевский получил известие о большом скандале в Ополчении. Воевода Матвей Плещеев, стоявший в Николо-Угрешском монастыре, поймал двадцать восемь казаков, грабивших монастырские села. Казаков чуть было не утопили, но все-таки не утопили, вернули Заруцкому.
— Мне нужен образец почерка Ляпунова, — потребовал Гонсевский от Грамотина и Андронова.
Грамотку, писанную рукой Прокопия Петровича, нашли в бумагах царя Шуйского. Сочинили поддельное послание от имени Земского Правителя в русские города: «Где казака поймают — бить и топить, а когда Московское царство, даст Бог, успокоится, то мы весь этот злой народ истребим».
С этой грамотой был выпущен за стены Китай-города пленный донской казак, побратим атамана Заварзина.
Ляпунов про этого казака ничего не знал, он покинул лагерь, как только разбойники, взятые Плещеевым, собрали круг, требуя утопить ненавистного Земского Правителя. Прокопий Петрович отправился в Рязань, к своим, за крепкие стены. Но покидал он стан на Яузе в великом и тяжком сомнении, как бы казаки не снюхались с Гонсевским? Остановился в Симоновом монастыре, надеясь, что войско, рассудив, поймет — строгости не прихоть Ляпунова, народ ожидает от Ополчения защиты от насильников и грабителей. Без поддержки народа поляков и бояр-изменников не одолеть.
К Прокопию Петровичу пришел старец, благословил спасаться от казачьего неистовства.
Ляпунов снова отправился в путь, но время было упущено. Возле Никитского острожка, недалеко от монастыря, его настигли казаки атамана Заварзина, коней выпрягли и увели. Пришлось ночевать в острожке, под казачьей охраной.
Сыну Владимиру Прокопий Петрович велел переодеться в простое платье и, если случится дурное, ехать в Нижний Новгород, говорить — смута от казаков. Да затворятся все ворота перед лживым племенем, живущим пролитием крови.
Спозаранку возле Никитского острожка поднялся шум, забряцали доспехи — явились служилые, дети боярские, жильцы, городовые дворяне…
— Прокопий Петрович! Отец родной, не оставляй! Ворочайся в свой стан. Без тебя дело не сладится.
— То-то же! — сказал Ляпунов, сразу позабыв свои сомнения и распираемый самодовольством.
Он возвращался на реку Яузу, в стан свой, как Большой хозяин, без которого всему дело конец.
Думал застать тишину, а у казаков в таборе — пальба, теснота — коло. Читали «ляпуновскую», писанную в Кремле, грамоту.
Казаки послали звать на коло всех трех правителей, но Трубецкой посольство не принял, а Заруцкий так сказал:
— Сами с усами. Своей головой живите. Отправил на коло верных людей мутить казаков. За Ляпуновым приехало еще одно посольство.
— Не ходи на круг, Прокопий Петрович! — сказали своему предводителю дети боярские.
Он не пошел, но от казаков прибыло третье посольство: дворяне Сильвестр Толстой да Юрий Потемкин целовали икону:
— Никто на тебя руки не поднимет, Прокопий Петрович. Но нельзя, чтоб ты перед всем казачьим войском был оболган. Поди, заступись за себя.
Он стоял на возвышении, среди моря ненависти. Он сразу понял, живым его отсюда не выпустят. Поглядел на березы вдали, на облака, овечками пасшиеся в синих высях. Крича и матерясь, ему сунули в руки грамоту.
— Ты писал?! Твоя рука?!
Удивился схожести почерка.
— Рука похожа, но таких слов не писал, не говорил.
— Врешь, собака! — сабли вынырнули из ножен, как у одного человека. Казаки смелы убивать сворой.
Не нашлось среди дворян смельчаков заслонить своего радетеля и защитника. Стушевались, а было здесь немало тех, кто кичится службами государям, великим князьям, чьи пращуры были и на Куликовом поле, и с Батыем схватывались.
Один только заслонил Ляпунова, враг его, Иван Никитич Ржевский.
— Сначала суд, а потом — казнь! — крикнул он казакам.
Казак Сережка Карамышев полосонул Ржевского саблей по животу, а другим ударом Ляпунова по голове. И тут уж кинулись скопом, по-крысиному.
Заруцкий, чтоб на него подозрение не пало в заговоре против Ляпунова, в час убийства резал поляков в Новодевичьем монастыре. Полякам удалось монастырь вернуть, но теперь все его защитники нашли в его стенах свою смерть. Заруцкий даже раненых не миловал.
20К Гермогену пришли от Гонсевского, принесли жареного судака, кубок с вином.
— Что за празднество такое? — спросил патриарх.
— Сначала откушай, святейший! — дворянин, показывая, что угощение не отравлено, съел рыбы и выпил глоток вина. Гермоген поделил рыбу и вино надвое, для Исавра, поел и выпил. Забирая серебряные поднос и кубок, дворянин сказал, смеясь:
— С убиением Ляпунова, твое святейшество! Нынче Кремль гуляет!
Одно худо следовало за другим.
Двадцать третьего июля, на другой день после злодейского убийства, к Москве подходила рать воеводы Морозова. Гонцы сообщили: осеняет войско чудотворная икона Казанской Божией Матери.
Как за спасением пошли ополченцы Ляпунова к иконе, забыли о поляках за спиной, о казаках. Каждый нес оживить благодатью душу свою скорбную, почерневшую на пожарищах, высохшую от отступничества.
В ту пору в казаков дьявол вселился.
— Ляпунова отдали на растерзание, теперь отбеливать себя к иконе поспешают! — сказал казакам Заруцкий. — Поучите, молодцы, русских дворян смирению. Пусть свиными рылами раньше казаков не лезут чудотворную чмокать.
На конях казаки догоняли пеших дворян, лупили нагайками, а тех, кто ерепенился, секли саблями.
Ночью большая часть детей боярских и городовых дворян бежали из московского лагеря, подальше от казаков.

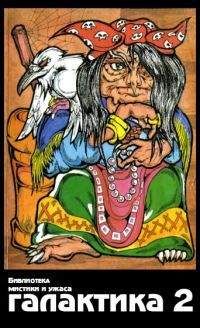

![Владимир Рыбин - Здравствуй, Галактика! [Cборник]](/uploads/posts/books/96398/96398.jpg)