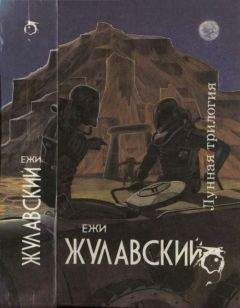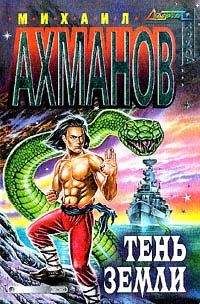Ежи Жулавский - Древняя Земля
Мыслить, а не сомневаться.
Творить, а не искать.
Не покоряться, а чувствовать, не вожделеть, а желать!
Но где путь к подобному чуду?
Нианатилока однажды сказал:
«Нужно научиться быть одиноким среди толпы и суеты, ибо вы еще не умеете быть одинокими в глухих лесах».
Сказал он это над Нилом, когда Аза возвращалась из развалин храма Исиды.
— Ваше превосходительство…
Яцек вскочил с кресла и обернулся. В дверях неподвижно застыл лакей.
— В чем дело?
— Мы беспокоились, потому что ваше превосходительство ночью не спустились в спальню…
Яцек нетерпеливо махнул рукой.
— Какие-нибудь известия?
— Госпожа Аза…
— Приехала?
— Так точно. Сегодня утром экспрессом. Мы хотели разбудить ваше превосходительство, как вы распорядились, но в спальне вас не было, а сюда мы не осмелились войти.
— Где госпожа Аза?
— Ее проводили в приготовленные для нее комнаты. Она велела передать, что через час будет завтракать и надеется увидеть ваше превосходительство.
Лакей вышел, и Яцек взглянул на Нианатилоку. Он пристально всматривался в индийского мудреца, пытаясь понять, какое впечатление произвело на того сообщение о приезде знаменитой певицы, однако лицо Познавшего три мира, как всегда, было спокойно, безмятежно, невозмутимо. Даже обычная улыбка не исчезла с его губ, в глазах не было ни гнева, ни печали, ни даже снисходительности.
— Брат, ты, наверно, спустишься вниз? — осведомился он безразличным тоном.
Аза уже ждала в столовой и чувствовала себя свободно, как в собственном доме. Она сменила дорожный костюм, надела легкое утреннее платье и сидела с ароматной египетской сигареткой в глубоком кожаном кресле с подлокотниками. Перед нею на столе, накрытом старинной цветастой льняной скатертью, сверкала серебряная чайная посуда, стояли тяжелые резные хрустальные вазы с фруктами и сладостями. Отодвинув недопитую чашку китайского чая и откинув голову на спинку кресла, она следила, сощурив глаза, за голубой струйкой табачного дыма, поднимающегося к резному потолку. Она положила ногу на ногу, и из мягких складок светлого шелка выглядывали тонкие, крепкие лодыжки, обтянутые блестящими черными чулками, и маленькие золотые туфельки.
После визита Лахеча и его неожиданной смерти Аза бросила свой дом, в котором, по правде сказать, разъезжая все время по свету, она и без того была нечастой гостьей. Странное все это произвело на нее впечатление. Люди из-за нее умирали неоднократно — и у нее под дверями и далеко, якобы убежав от нее на край света; умирали и тихо, без единого слова, без единой жалобы, без упреков, и оповестив предварительно многостраничным письмом, в котором сообщали день и час, когда они покончат с собой, обвиняли ее или лицемерно, шутовски благословляли за «горькое счастье», какое она им подарила, однако она горевала из-за этого ничуть не больше, чем из-за потерянной шпильки или сломавшейся корсетной пластинки.
А вот о Лахече она не могла думать спокойно. Всякий раз, стоило выйти из дому, ей казалось, будто она видит у дверей на улице его скорчившийся труп с поразительно белым, искаженным предсмертной мукой лицом, который непонятно зачем принесли к ее дому.
При одном воспоминании об этом она вновь содрогнулась. Ведь она знала, что Лахеч погиб ради нее и из-за нее.
Правда, противясь смутным угрызениям совести, Аза всячески отгоняла эти мысли. Ведь она ничего худого ему не сделала, так чего же он от нее хотел? Да, она довела его безумными поцелуями до утраты рассудка, а в последний момент, когда он осмелился покуситься на большее, оттолкнула его, как собаку. Но разве это причина лишать себя жизни или еще хуже — добровольно и неприкрыто нарываться на смерть?
В памяти у Азы встали его глаза — в первый миг полные изумления и страха, а потом ужасающе скорбные и словно погасшие…
Со сложенными руками он лежал на ее коленях и тянул к ее лицу голодные губы, казавшиеся в этот миг почти красивыми. Она велела ему кощунствовать — проклинать свое искусство и то возрождение через действие, которым он так хвалился; он должен был громогласно отречься от всего, что недавно осмелился сказать против нее, и признать, что он перед нею — ничто, и все в мире — ничто в сравнении с одним-единственным ее поцелуем.
Господи, она даже не оттолкнула его, когда он, охваченный любовным безумием, протянул к ней руки, чтобы обнять; она хлестнула его взглядом и ледяными словами: «Ты ничто для меня».
Уходя от нее, он произнес: «Нет, не потому, что я не обладал тобой… Я целовал тебя в уста и оттого потерял веру в себя… »
Смешная история!
Аза бросила докуренную сигаретку в пепельницу и вытянула ноги в золотых туфельках по пушистому ковру. Она злилась на себя за то, что продолжает думать об этом, как она считала, ничтожном и не заслуживающим внимания событии, и тем самым подтверждает свою глубинную душевную слабость, меж тем как должна быть сильной, сильной и безжалостной, словно кроющаяся в ветвях дерева рысь, властительница леса.
Аза обернулась на звук открывавшейся двери. На пороге стоял Яцек, побледневший чуть более, чем обычно; он поклоном приветствовал ее и извинился за опоздание. Не вставая, Аза протянула ему левую руку, холеную, с длинными розовыми ногтями. Яцек склонился к ней и прикоснулся чуть дрожащими жаркими губами; в этот миг Аза подняла глаза, бросила взгляд на дверь и с изумлением увидела стоящего в ней полунагого буддиста. Она широко раскрыла глаза, и холодок необъяснимого страха пробежал у нее по телу. Ей почудилось, что она откуда-то знает это лицо, да, знает и очень хорошо…
Она медленно поднялась; удивленный Яцек чуть отступил в сторону, а она смотрела во все глаза и напрягала память.
Постепенно, постепенно стало возникать смутное воспоминание из давнего детства: огромный наполненный людьми зал, ярко освещенная арена и эти же самые руки с длинными чуткими пальцами, которые она сейчас видит на ручке двери, и это же лицо, обрамленное длинными черными волосами…
И поет волшебная скрипка, превращенная прикосновением этих вот рук в живой ангельский хор. А она, девочка, чувствует, как у нее в груди замирает сердце от игры величайшего музыканта, несравненного скрипача, властелина струн, золота и сердец, обожаемого, прославленного, всемогущего, любимого, богатого, прекрасного, как бог…
— Серато!
Познавший три мира едва заметно склонил голову.
— Да, когда-то я действительно носил это имя, — ничуть не удивясь, подтвердил он обычным ровным голосом.
VI
Днем и ночью Рода размышлял, как бы избежать грозящей опасности. Он не собирался лететь вместе с Яцеком на Луну и поклялся себе сделать все, но не допустить этого путешествия. Правда, он отдавал себе отчет, как ничтожно мало это «все», на которое он способен, как слабы его возможности, и трясся при мысли о своем появлении вместе с Яцеком в городе у Теплых Прудов.