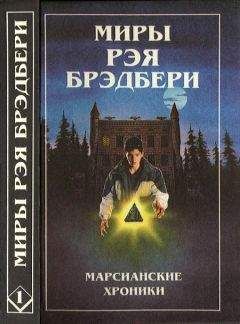Рэй Брэдбери - Миры Рэя Брэдбери. Т. 6. Электрическое тело пою!
— Вот неудача-то.
— Топтались там как тупые, несчастные, безголовые дураки!
— Ох ты, как нескладно получилось.
— Я хотел расшевелить их, но они просто топтались на месте без толку. Пришло всего восемь, восемь из двадцати, всего восемь, и только я один в маскарадном костюме. Говорю тебе, один-единственный! Дурачье, какое дурачье…
— И это после всех хлопот…
— Они притащили своих девчонок, и те тоже стояли и ни черта не делали. Никаких там игр, ничего! Некоторые ушли с подружками, — произнес Силач, укрытый темнотой, не глядя на мать. — Ушли на пляж и не вернулись. Вот честное слово! — Он встал и прислонился к стене, такой огромный, нелепый в шутовских коротких штанишках. Наверное, забыл, что на голову еще напялена детская шапочка, и тут внезапно вспомнил, сорвал ее и швырнул на пол. — Я пробовал рассмешить их, играл с плюшевой собачкой и еще всякие штуки делал, но никто и с места не сдвинулся. Я чувствовал себя дураком в этом костюме, ведь я один был такой, все остальные одеты по-нормальному, и только восемь из двадцати, да и те почти все разошлись через полчаса. Пришла Ви. Она тоже хотела увести меня гулять по пляжу. К тому времени я уже разозлился. Здорово разозлился. Нет уж, говорю, спасибо! И вот вернулся. Можешь взять леденец-то. Куда это я его девал? Вылей сидр в раковину или выпей, мне все равно.
Пока он говорил, мать не шевельнула ни одним мускулом. Как только закончил, открыла было рот…
Звонок.
— Если это они, меня нет.
— Лучше все-таки ответь.
Он схватил телефон, сорвал трубку.
— Сэмми? — Отчетливый, громкий, высокий голос. Голос восемнадцатилетки. Силач держал трубку на расстоянии, сердито уставясь на нее. — Это ты, Сэмми?
Он в ответ лишь хмыкнул.
— Боб говорит. — Юноша на другом конце провода заторопился. — Хорошо, что застал тебя! Слушай, как насчет завтрашней игры?
— Какой еще игры?
— Какой игры?! Господи! Ты, наверное, шутишь, да? «Нотр-Дам» против «Футбольного клуба»!
— А-а, футбол…
— Что значит: «А-а, футбол…» Сам же расписывал, подбивал идти, сам говорил…
— Футбол отменяется. — Он уставился перед собой, не замечая ни трубки, ни стоящей поблизости женщины, ни стены.
— Значит, не пойдешь? Силач, без тебя это будет не игра!
— Надо полить газон, вымыть машину…
— Да подождет это все до воскресенья!
— А потом еще вроде бы должен приехать дядя навестить меня. Пока.
Он положил трубку и прошел мимо матери во двор. Укладываясь спать, она слышала, как он там возится.
Силач терзал грушу до трех утра. Три часа, а раньше всегда заканчивал в двенадцать, думала мать, прислушиваясь к глухим ударам.
Через полчаса он вернулся в дом.
Звуки шагов становились все громче, потом внезапно смолкли. Он добрался до ее спальни и стоял у двери.
Силач не шелохнулся. Мать отчетливо слышала его дыхание. Ей почему-то казалось, что на нем по-прежнему детский костюмчик, но убедиться в этом совсем не хотелось.
После долгой паузы дверь медленно открылась.
Он вошел и лег на кровать рядом, не касаясь ее. Она сделала вид, что спит.
Он лежал на спине, неподвижный как труп.
Она не могла его видеть, но почувствовала, как вдруг затряслась кровать, словно он смеялся. Трудно сказать точно, ведь при этом он не издал ни звука.
А потом раздалось мерное поскрипывание маленьких стальных пружин. Они сжимались и распрямлялись в его могучих кулаках. Сжимались — распрямлялись, сжимались — распрямлялись…
Хотелось вскочить и крикнуть, чтобы он бросил эту ужасную лязгающую мерзость, хотелось выбить их из его пальцев!
Но чем он тогда займет руки? Что он будет в них сжимать? Да, чем он займет руки, когда бросит пружины?
Поэтому ей оставалось одно: затаить дыхание, зажмуриться и, напряженно вслушиваясь, молиться про себя: «О Господи, пусть так и будет, пусть он и дальше сжимает свои железные пружины, пусть он их сжимает, пусть не останавливается, пожалуйста, пожалуйста, сделай так, чтобы он не останавливался, пусть не останавливается, пусть…»
А до рассвета было еще далеко.
ЧЕЛОВЕК
В РУБАШКЕ РОРШАХА[9]
Брокау.
Что за фамилия!
Послушайте: она лает, рычит, повизгивает, нагло заявляя о себе:
Иммануил Брокау!
Ничего не скажешь — звучит! Очень подходящее имя для выдающегося психиатра из числа тех, что долгое время бороздили воды вселенского океана, но ни разу не потерпели крушения.
Быстро перелистайте труды Фрейда, точно перцем приправленные выдержками из историй болезни его пациентов, и все студенты разом чихнут:
Брокау!
Так что же все-таки с ним случилось?
Однажды он, точно герой первоклассного водевиля, взял да и исчез.
И стоило выключить театральный прожектор, как все сотворенные доктором Брокау чудеса разом померкли. Психически неустойчивые кролики норовили снова спрятаться в цилиндр фокусника. Дым от выстрела всасывался обратно в дуло ружья. Все мы ждали, что будет дальше.
Десять лет о докторе Брокау никто ничего не знал. И мы уже почти перестали надеяться.
Брокау пропал, точно канул — с шутками и раскатистым хохотом — в бездны Атлантики. Чего ради? Чтобы отыскать там Моби Дика? Чтобы заняться с ним психоанализом и выяснить, что этот дьявол-альбинос на самом деле имел против безумца Ахава?
Кто знает?
В последний раз я видел Брокау, когда он бежал в сумерках по летному полю к самолету, а провожавшая его жена и шесть тявкавших шпицев смотрели ему вслед.
— Прощайте навсегда!
Его веселый крик показался мне шуткой. Однако уже на следующий день я обнаружил, что с двери в его кабинет содрали табличку с именем, а медицинские кушетки, раздавленные пациентками, главным образом пожилыми толстухами, выставили прямо под дождь — их должны были увезти и продать с аукциона где-нибудь на Третьей авеню.
Итак, этот гигант мысли, как бы одновременно являвший собой Ганди, Моисея, Христа, Будду и Фрейда, теории которых плотными слоями лежали в его душе, точно геологические пласты в горной армянской пустыне, бесследно исчез, будто просочился меж облаками и растворился в небесной синеве. Чтобы умереть? Или чтобы жить тайно?
Прошло десять лет. Как-то я ехал на автобусе по прелестному калифорнийскому побережью близ Ньюпорта. На остановке в автобус сел какой-то мужчина лет семидесяти, который ссыпал мелочь в кассу с таким видом, точно это была манна небесная. Я вскинул голову, посмотрел на него со своего заднего сиденья и обомлел: