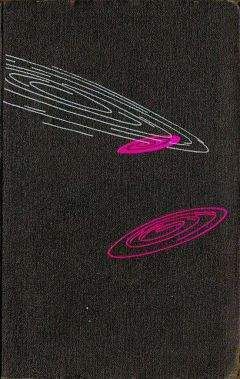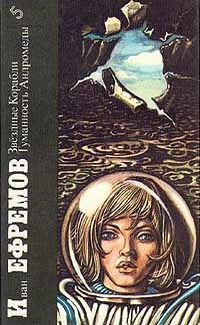Иван Ефремов - Сборник "Туманность Андромеды"
Недоумевающий Тирессуэн попросился уйти отсюда скорее, но юноша, весело смеясь, повел его дальше. Они проходили по красивым, как в раю, мраморным белым лестницам, между высокими колоннами из розового или серого полированного камня. Он видел комнаты, сплошь отделанные темным деревом или пластинками прекрасного голубоватозеленого камня, оправленного в золото (бронзу, как сказал его спутник — студент). Белые статуи нагих женщин чудесной красоты стояли и лежали в галереях и казались вылепленными из затвердевшего неяркого света, лившегося от серого неба через громадные, наглухо закрытые стеклами окна…
Окончательно примирил Тирессуэна с дворцом северного города зал в самой глубине сказочного здания. Отделанные серебряной краской белые полированные стены казались жемчужными. Высоко вверх уходили круглые арки, с которых свисали сверкающие люстры из тысяч граненых кусочков хрусталя, переливавшихся всеми цветами радуги. Блестел гладкий пол из кругов серого и белого мрамора. В нишах справа и слева по резным из мрамора раковинам, вделанным в стены, прозрачными каплями спадала вода. Во всех стенах были вставлены большие зеркала не с обычным резким и мертвым блеском, а бледного, чуть сероватого отлива, который дает лишь настоящее серебро. Высокие окна выходили на широкую реку. Простор льда и снега и свет неба за окном соединялись в одно с серебряно-белым хрустально-зеркально-мраморным залом. Это было такое неописуемо чудесное зрелище, что туарег долго стоял в молчании, и его проводник забеспокоился. Тирессуэн почувствовал, что через этот зал он впервые вошел в душу северной страны. Туарег понял неведомых строителей и их великую любовь к этому прозрачному миру бессолнечного жемчужного света, холода и чистоты, такой высокой, что она казалась неземной…
Афанеор вскрикнула от восхищения, и Тирессуэн вернулся к действительности. Далеко вперед уходила золотистобурая пустыня, и двумя слепящими пятнами горели поодаль маленькие озерки.
— А наши мерайа, — воскликнула девушка, — отдают тот же могучий свет, какой низвергает солнце нашей страны! И в нем понятная нам красота и сила…
— У нас свет слишком беспокойный. Он не дает думать, чувствовать, так же как дышать — глубоко и долго. Здесь человек размышляет, поет, собирает мудрость в счастье по ночам, там, на севере, это делают днем, и времени на труд и мысли у них больше…
— И потому они достигли большей мудрости и искусства, чем мы! — добавила Афанеор.
Тирессуэн остановил мехари.
— Здесь надо повернуть на восток, туда. — Он показал на отдаленный горный уступ, один из северных отрогов Тифедеста, окутанный в дымку горячего воздуха, невероятно искажавшую его очертания. — Там проходит автомобильная дорога, — продолжал туарег, — и мы пересечем ее ночью. Сейчас найдем убежище на время полдневной жары. Поедем направо и спустимся в аукер.
…Афанеор лежала на жестком верблюжьем одеяле и слушала Тирессуэна под аккомпанемент стонов, вздохов и треска, похожего на хлопанье бича. Это звучали камни, лопавшиеся от солнечного нагрева, — хор жалоб мертвой материи на неумолимое разрушение.
Тирессуэн продолжал говорить о России. Мощь памяти человека побеждала природу и переносила Афанеор за тысячи километров, в страну, где впервые побывал человек Сахары.
В день посещения серебряного зала — третий, предпоследний день его пребывания — к проводнику Тирессуэна присоединились еще трое молодых людей. Они повели туарега вечером на ахаль — музыкальное собрание в особом храме, который был так же огромен, как и все, что встречались Тирессуэну в городе Ленина. Тысячи людей участвовали в собрании, но только как зрители. На ахалях в России поют и танцуют тщательно обученные и особенно одаренные люди, которые живут на деньги, полученные за право присутствия на собрании.
За Тирессуэна заплатили его провожатые и усадили его в белом ящике, отделенном от всего зала обитой красным бархатом загородкой. Провожатые объяснили туарегу, что здесь собрался вовсе не весь город, а меньше тысячной части его взрослых жителей. Количество людей вселяло в Тирессуэна удивление, смешанное со страхом. Если бы собрать всех взрослых людей племени кель-ахаггаров, то они поместились бы в этом белом зале, отделанном резной позолотой и красным бархатом…
Спутник Тирессуэна стал объяснять представление — сказку о девушках, превращенных в лебедей злым волшебником и освобожденных любовью юноши к царице лебедей. Туарег понял из объяснений, что лебеди — это большие белые птицы, похожие на гусей, только более величественные и красивые. Тирессуэну приходилось слышать и видеть диких гусей, пролетавших над западной частью Сахары.
Потух свет. Оркестр из сотни людей с какими-то сильно и красиво звучащими инструментами начал пленившую туарега мелодию. Звонким призывом грянули серебряные трубы. Тревожные и тоскливые, потянулись в бесконечную даль зовы, будто в самом деле прощальные крики летящих гусей. Они слабели и становились все более звенящими, теперь напоминая Тирессуэну те таинственные зачаровывающие звуки, означавшие для некоторых людей их смертный час, — пение песков перед сильной песчаной бурей. Слыхал их и Тирессуэн — звонкие вопли серебряных труб, несущие оцепенение и сознание обреченности. Здесь же могучие трубы подхватывали и несли как на крыльях, томили ожиданием чего-то прекрасного и тревожного. Скрипки хором поддерживали их стремление и превращали его в вихрь бурных чувств — исканий и непокоя…
Туареги — музыкальный народ, и Тирессуэн, впервые узнав, что на свете есть такая музыка, забыл о самом себе.
Ожидавший несколько насмешливо европейского ахаля, думая, что европейцам несвойственно увлечение сказочными фантазиями, распространенными среди кочевников Сахары, туарег был захвачен врасплох и побежден русской музыкой.
Все было необыкновенно в поразительном представлении — и яркие сцены придворных балов, и замечательные декорации, делающие сказку действительностью. Но туарег весь превращался в слух и внимание и не мог отвести глаз от девушек-лебедей и их царицы. Раньше Тирессуэн видел в Бу-Сааде знаменитых танцовщиц племени улед-наиль с гор Любви — девушек, о которых по всей Африке говорят, что у них глаза как огненные мухи, ноги газелей, а животы подвижнее и быстрее, чем язык хамелеона. Танец живота выражал неутомимость и гибкость, поразительную подвижность всех мышц тела, яростные, почти гневные порывы страсти и также удивлял поразительным искусством. Но туарег не мог представить, чтобы искусство танца могло быть доведено до такого совершенства. Стройные девические тела в тысячах отточенных движений выражали все оттенки чувств, владеющих человеком. Не надо было даже слышать музыки, чтобы понять происходящее. Тирессуэн видел, что красота человеческого тела может быть такой же чистой и светоносной, как беломраморные создания искусства, виденные им во дворце-музее. Нет, неверно, во сто раз более прекрасной, потому что здесь — сама жизнь в неисчерпаемом богатстве движения ее гибких форм!