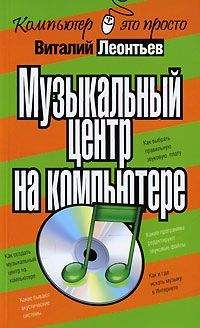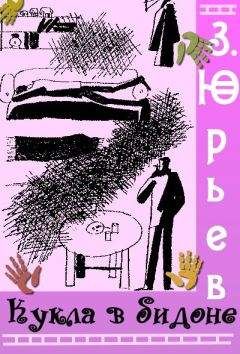Зиновий Юрьев - Повелитель эллов
— Так.
— И вы считали эту невинную мысль заразой?
— Она не невинна. Если элл вздыхает по тому, как хорошо было раньше в Семье, значит, он считает, что сейчас плохо. А это зараза.
— А сейчас в Семье хорошо?
— В Семье не может быть плохо. Семья есть Семья.
— Может или не может — это другой вопрос. Отвечай, в Семье сейчас все хорошо?
— Семью не обсуждают. Семья — не корень багрянца, который подымают с земли, рассматривают, цел ли он, сочен, пробуют на вкус. Семья была и будет, и сомневаться в ней и обсуждать ее — зараза, которую нужно искоренять.
— И бросаться на сомневающихся с кулаками?
— Да, — твердо сказал элл. — Если надо, с кулаками.
— И нарушать при этом Закон?
— Да, если нужно, нарушать Закон. Потому что Семья выше Закона. Закон ведь охраняет Семью, а не Семья — Закон. И если Семья под угрозой, мы не будем считаться с Законом. Мы переступим через него, как переступаем через обломки камней, что валяются на тропе.
— А если другие будут считать, что ты не имеешь права нарушать Закон, не имеешь права судить, что зараза, а что нет, и будут бросаться на тебя с кулаками? И будут тебя бросать на землю и топтать?
— Мы будем сражаться.
— За что?
— За Семью, за свою правоту.
— Ты хочешь имя?
— Нет.
— Значит, ты бесстрашен, и это достойно уважения. Ты будешь сражаться с каждым, кто думает не так, как ты, поскольку только ты думаешь правильно. Так?
— Да.
— Прекрасно. Вот я стою здесь и думаю по-другому. А ты, Первенец?
— И я.
— Верткий?
— Мог бы и не спрашивать.
— Тихий?
— Он мне противен.
— Узкоглазый?
— Он туп.
— Свободный?
— У меня есть имя. Я принял его.
— Видишь, элл? И мы уверены, что именно мы думаем правильно. И выходит, мы должны накинуться на тебя с кулаками. Так? Чего же ты молчишь?
— Не знаю я, что вы думаете. Мы правы, это мы знаем.
— Что же ты тогда стоишь, элл? Что же ты не кидаешься на нас? Мы же думаем не так, как ты. Где же твоя храбрость? Ну, смелее, кидайся на нас. А, ты стоишь? Конечно, бить вдвоем одного удобнее. Гвардия, что делать с этим узколобым?
— Запереть.
— Никто не возражает?
— Нет.
— Узколобый, ты согласен, чтобы тебя заперли?
— Воля ваша. Нам все равно. Мы — одна Семья.
— Свободный, Верткий, отведите его и заприте. Мы пойдем дальше. Догоните нас.
Ну что, Юуран, похоже, что первый экзамен ты сдал. Захватил власть, вершишь суд, изрекаешь истины, упиваешься собственной мудростью и терпимостью. И перестань притворно стонать от тяжести бремени, не симулируй. Ведь сладко же, оказывается, издавать приказы и слушать аплодисменты.
Ну, положим, возразил я себе, особых аплодисментов я не слышу пока. Ладно, не будем спорить, а то вон и притаившиеся сомнения начинают поднимать свои головы. А они действительно поднимали головы, мои сомнения, и покачивали ими, глядя на меня. Не слишком ли я действую по-кавалерийски, не слишком ли лихо навязываю бедным эллам наши земные понятия?
Не сделали мы и сотни шагов, как кто-то схватил меня сзади за плечи, и я стремительно обернулся. На меня виновато смотрел принципиальный элл, что отказался от имени.
— Что ты хочешь? — спросил я, сердясь на него за собственный испуг.
— Я догнал тебя…
— Я вижу.
— Я передумал. Ты был прав. Я хочу имя.
— Молодец. Гвардия, как, дать ему имя?
— Ты сказал, что он честный, — сказал Тихий. — По-моему, это хорошее имя. Честный.
— В нем было много жестокости, — пробормотал Верткий.
— В тебе тоже, — заметил Тихий.
— Сейчас во мне нет больше жестокости, потому я и догнал вас, только печаль и пустота.
— Поэтому ты хочешь имя? — спросил Первенец.
— Да.
— Ты прав.
— Итак, элл, отныне ты Честный. И ты должен оправдать свое имя. Служи ему, и ты заполнишь пустоту в себе и изгонишь печаль.
3
Ночь была на исходе, небо медленно серело, и можно было уже угадать очертания облаков. Вот они начали наливаться цветом и вдруг вспыхнули победоносным оранжевым сиянием. Ветер стих, унеся с собой колючий холод.
И в это мгновение мы увидели лежавшего на земле элла. Я никогда не видел валяющегося трупа, я вырос и жил на планете, обитатели которой давно изгнали с нее жестокость и насилие. И все-таки что-то подсказало мне, что он мертв. Была в этом распростертом трупе какая-то конченность. Мы подошли к нему. Я не ошибся. Он смотрел в небо невидящими глазами, и на лбу его, почти над самым средним глазом, зияла рана. Ниточки черной в утреннем неверном свете крови тянулись от нее вниз линиями дорог на географической карте.
Я нагнулся над ним и коснулся пальцами его щеки. Она уже была холодна. Малышом я никак не мог понять смысла алгебры. Я уже знал цифры, и пусть неохотно и с трудом, но мог их складывать, вычитать и даже перемножать. Но буковки, буковки-то что значат? Числа числами, а буковки буковками. До этого момента было в жестокости гибнувшей Семьи что-то абстрактное, что-то алгебраическое, что-то ненастоящее. Но труп, что смотрел в небо всеми тремя невидящими глазами, был настоящим. Это была жестокость конкретной арифметики, ее не нужно было подставлять в абстрактные формулы.
Кто бы мог подумать, что кроткие, безымянные существа, что совсем недавно несли меня в бесшумном полете, словно ангелы-хранители, таят в себе столько жестокости. Семья, это орудие анонимной безмятежности, разлагаясь, неожиданно выделяла из себя жестокость и нетерпимость. А может быть, не так уж и неожиданно. Может быть, Семья со своим всеподавляющим взаимоконтролем муравейника лишь загнала вглубь семена насилия. Может быть, выпалывать эти страшные сорняки надо только на индивидуальном уровне. Может быть, настоящее добро — это всегда арифметика, а не алгебра.
— Что будем делать, гвардейцы? — спросил я эллов.
— Предадим земле.
— Это само собой. Но где гарантия, что вон там, за тем домом мы не наткнемся еще на труп? Где гарантия, что завтра уже половина бывшей Семьи не накинется друг на друга с тяжелыми камнями в руках? А послезавтра и вторая половина? Что же делать?
Эллы молчали. Первенец скорбно опустил голову и смотрел на лежащее тело. Тихий задумчиво уставился в одну точку прямо перед собой. Верткий сказал:
— Пусть грызутся.
— И убивают друг друга? — спросил печально Первенец.
— А почему бы и нет, если им это так хочется? — пожал плечами Узкоглазый.
— А что можно вообще сделать? — спросил Тихий. — Я стою и думаю, что мы вообще можем сделать. Вот была Семья, мы себя не осознавали, не было у нас ни имени, ни своих мыслей, ничего своего не было, даже злобы. Может, это всегда так? Может, когда осознаешь себя, всегда появляется желание мучить другого? Может, непохожесть, неповторимость всегда несут с собой нетерпимость?