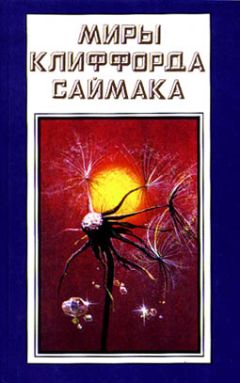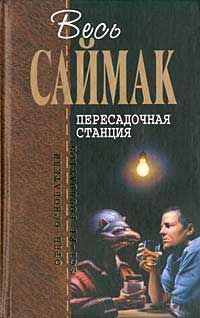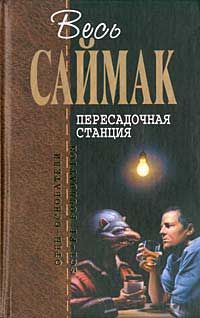Клиффорд Саймак - Планета Шекспира
«Или, — продолжал он, — в качестве символа, который не может быть ни воспринят ни понят до того отдаленного дня, когда последняя чистка биологической эволюции произведет некий невообразимый разум, который в конце концов сможет узнать причину и цель вселенной? Встает также вопрос, что за разум потребуется, чтобы достигнуть такого понимания. Всегда, по-видимому, должна быть граница для каждой фазы эволюции, и никак нельзя быть уверенным, что такая граница не отрезает возможность достижения разума, необходимого для понимания вселенной.»
«Может быть, — заметила гранд-дама, — вселенная вовсе не предназначена быть понятой. Быть может, фетиш, который мы делаем из понимания — не более, чем ошибочный аспект нашего технологического общества.»
«Или, — прибавил монах, — философического общества. Может быть, это более верно для философского общества, чем для технологического, ведь для технологии все до лампочки, лишь бы двигатели вертелись, да сходились бы уравнения.»
«Я думаю, оба вы ошибаетесь, — возразил ученый. — Любому разуму должно заботиться о себе. Разум непременно должен подгонять себя к границам своих возможностей. Это проклятие разума. Он никогда не оставляет владеющее им создание в покое; он никогда не дает ему отдыха, он гонит его все дальше и дальше. В последний миг вечности он будет ногтями цепляться за последний край пропасти, брыкаясь и вопя, лишь бы ухватиться за последний клочок того, за чем он в то время мог бы охотиться. А за чем-нибудь он будет охотиться, тут я готов держать с вами пари.»
«Как это мрачно у вас выходит», — сказала гранд-дама.
«Рискуя показаться каким-нибудь напыщенным и безмозглым „патриотом“, — ответил ученый, — я все же могу сказать: мрачно, но величественно.»
«Ничто из этого не указывает нам путь, — сказал монах. — Собираемся ли мы прожить еще тысячелетие, как три раздельных, эгоистичных, самодостаточных личности или же мы отдадим себя за шанс стать чем-то еще? Не знаю, чем может быть это что-то, может быть оно будет равным вселенной, может быть — само будет вселенной или же чем-либо меньшим. В самом худшем случае, я думаю — свободным сознанием, отъединенным от времени и пространства, способным переместиться куда угодно, а может быть и когда угодно, куда мы пожелаем, не говоря уже обо всем остальном; поднявшимся над ограничениями, наложенными на нашу плоть.»
«Ты нас недооцениваешь, — сказал ученый. — Мы провели в нашем теперешнем состоянии только тысячелетие. Дай нам еще тысячу лет, дай нам еще десять тысячелетий…»
«Но это будет нам чего-то стоить, — сказала гранд-дама. — Это не придет задаром. Какую цену бы, предложили вы, сэр Монах, за это?»
«Мой страх, — ответил монах, — Я отдаю свой страх и буду рад этому. Это не цена. Но это все, что у меня есть. Все что я могу предложить.»
«А я — свою стервозную гордыню, а наш мастер Ученый — свой эгоизм. Ученый, отдадите свой эгоизм?»
«Это придет трудно, — сказал ученый. — Может быть, наступит время, когда я не буду нуждаться в своем эгоизме.»
«Ну, — сказал монах, — у нас есть еще Пруд и божий час. Может быть они дадут нам моральную поддержку, а может быть, и какой-нибудь стимул — даже если это будет стимул убраться от них подальше.»
«Я думаю, — сказала гранд-дама, — что мы в конце концов так и сделаем. Не уберемся, как вы говорите, от кого-то подальше. Я думаю, что в конце концов, то, чего мы хотим — убраться от себя. Мы скоро так устанем от собственных крошечных „я“, что будем рады слиться с двумя другими. И может быть, мы в конце концов достигнем того благословенного состояния, когда у нас вовсе не будет „я“.»
31
Никодимус ждал возле угасшего костра, когда Хортон вернулся от Пруда. Робот упаковал тюки и сверху на них лежал томик Шекспира. Хортон заботливо опустил кувшин, оперев его на тюки.
— Хотите взять еще чего-нибудь? — спросил Никодимус.
Хортон покачал головой.
— Книга и кувшин, — ответил он. — По-моему, это все. Керамика, которую собирал Шекспир, ничего не стоит в создавшемся положении. Не больше, чем сувениры. Когда-нибудь сюда явится кто-то еще, люди или же нет, и они предпримут изучение города. Люди, более чем вероятно. По временам кажется, что наш вид имеет почти фатальную привязанность к прошлому.
— Я могу нести оба тюка, — сказал Никодимус, — и книгу тоже. Несите этот кувшин, вам нельзя себя обременять.
Хортон ухмыльнулся.
— Я страшно боюсь где-нибудь по дороге за что-нибудь зацепиться. Я не могу этого позволить. Я взял Пруд под опеку и не могу допустить, чтобы с ним что-нибудь случилось.
Никодимус сощурился на кувшин.
— У вас там его не много.
— Достаточно, вероятно, пузырька, пригоршни его было бы вполне достаточно.
— Я не совсем понимаю, зачем все это, — заметил Никодимус.
— Я тоже, — ответил Хортон, — кроме того у меня чувство, будто я несу кувшин друга, а там, в завывающей дикости космоса, человек не может просить ничего большего.
Никодимус встал с кучи хвороста, на которой сидел.
— Берите кувшин, — сказал он, — а я взвалю на себя остальное. Больше нас здесь ничего не держит.
Хортон даже не двинулся, чтобы взять кувшин. Он стоял там, где и был, и не спеша оглядывался.
— Я чувствую, что мне этого не хочется, — сказал он. — Словно осталось еще, что-то сделать.
— Вам недостает Элейны, — сказал Никодимус. — Славно было бы, будь она с вами.
— И это тоже, — согласился Хортон. — Да, мне ее недостает. Трудно было стоять и смотреть, как она уходит в тоннель. И кроме того, есть он, — Хортон указал на череп, висящий над дверью.
— Мы не можем его забрать, — сказал Никодимус. — Этот череп рассыпется от прикосновения. Он и там-то провисит не долго. Когда-нибудь подует ветер…
— Я не это имел в виду, — сказал Хортон. — Он был здесь один так долго. А теперь мы снова оставляем его в одиночестве.
— Плотоядец остался здесь, — сказал Никодимус.
Хортон с облегчением согласился:
— Верно. Об этом я не подумал.
Он нагнулся и поднял кувшин, заботливо прижав его к груди. Никодимус взвалил на спину тюки и сунул под мышку книгу. Повернувшись, он направился вниз по тропе; Хортон последовал за ним.
У поворота Хортон повернулся и посмотрел назад, на греческий домик. Хорошенько ухвативши кувшин рукой, он поднял другую прощальным жестом.
Прощай, сказал он без слов, мысленно. Прощай, старый штормовой альбатрос — храбрец, безумец, затерянный.
Быть может, то была игра бликов света. А может что-то еще.
Но в любом случае, как бы то ни было — Шекспир подмигнул ему со своей позиции над дверью.