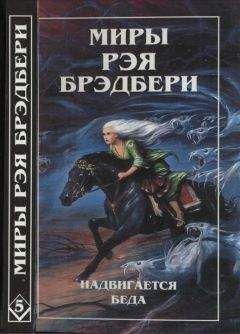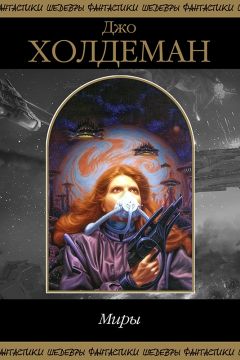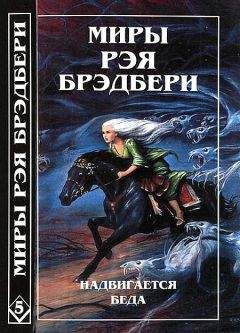Сергей Снегов - Диктатор
4
Итак, Войтюк спровоцировал меня на придумывание государственного секрета. Я спровоцировал Гамова на «Декларацию о войне», а «Декларация о войне» стала одной из вех, определяющих ход истории.
Будущий историк не найдёт в «Декларации» ни единой идеи, которые не были бы уже Гамовым высказаны ранее. Он повторялся. Но повторялся так энергично и сжато, придал идеям такую чёткость, что они сразу врубались в память. Главным в декларации было то, что являлось главным во всех его прежних речах: война — преступление против человечества. Руководителей и пособников войны должен судить суд скорый и безжалостный. Я сотни раз слышал от Гамова такие речения, они носили скорее эмоциональный, чем политический характер. Даже в создании Чёрного суда все помощники Гамова, кроме одного — Гонсалеса — увидели нечто, помогающее победе, а вовсе не обвинение против всего человечества.
Я высказал возражения против слишком хлёстких формулировок.
— Семипалов, вы раньше требовали, чтобы я изложил философию нашего правительства. Вот я и высказываю её. Вы с ней не согласны?
— Недоумеваю. Вы объявили преступниками всех, кто ведёт войну. Но ведь это означает, что и мы преступники?
— А разве вы сомневаетесь в том, что вы преступник?
Он сказал это так серьёзно, что не я один запротестовал. Не мы начали войну, мы лишь ведём её к победе — нашей победе, разумеется. Мы не создатели, не организаторы военных ситуаций. И мы не можем собственным старанием прекратить войну. Если мы признаем себя преступниками и захотим перестать ими быть, нам это не удастся. Война — несчастье, а не преступление. В преступлении присутствует злая воля, в приказах командующего армией необходимость — защита своей страны. Командующий — слуга неизбежности, но не злодей.
— Вы пацифист. И доводите отрицание войны до крайних пределов, — поддержал меня Вудворт. — С вашей программой я не смогу проводить международной политики. Вы ставите меня в немыслимое положение, Гамов!
Наш министр внешних сношений так разволновался, что повысил голос. Гамов хранил хладнокровие, даже улыбался. Не так уж часто теперь выпадали случаи — видеть Гамова улыбающимся.
— Я не призываю вас соглашаться со мной. Лишь в очень простых случаях создаётся полное единомыслие. Проблема войны к таким случаям не относится. Я опубликую «Декларацию о войне» как моё личное обращение к народам мира. А вы сообщите о несогласии с отдельными формулировками редактору «Трибуны». Фагуста создаст шум вокруг наших расхождений.
— Зачем вам шум господина Фагусты? — с раздражением спросил Вудворт. — Он повредит авторитету нашей монолитности.
— Нам важней знать реальное настроение народов, чем добиваться насильственного единства в своём кругу. Тот факт, что в правительстве расхождения, заставит каждого составить собственное мнение, Фагуста шумихой будет способствовать этому.
— Снова получается информация методом провокации, — повторил Готлиб Бар полюбившуюся фразу.
Мне, уже наедине, Гамов обрисовал свой проект «Декларации» несколько иными линиями. Разве я не внушил Войтюку, что он будет получать от меня только правдивую информацию? И разве не солгал, что сам выступаю против диктатора? А если враги дознаются, что Семипалов вовсе не соперник Гамова и вовсе не ведёт против Гамова тайной войны? Ведь тогда начатая игра потеряет значение. А теперь они скажут себе: нет, до чего же дошли у них распри, если не поостереглись открыто выставить на обзор свои разногласия! И окончательно уверятся, что Семипалов, точно, скрытый соперник, а не последователь Гамова.
Он выкладывал это радостно — восхищался собой и тем, что придумал удивительную ситуацию: все помощники возражают против его идей, но все сохраняют верность ему на практике. В нём непостижимо совмещались несовместимости — добиваться «эффективности» самого маленького поступка — и забывать о любой пользе ради идей, практически неосуществимых, но из разряда тех, что именуются высокими. Он понимал, что декларацией о войне вызывает раскол в своём окружении. Я сказал, что он предоставлял решение спора всему человечеству — и это не фраза. Он видел своим единственным серьёзным партнёром во всех спорах именно всё человечество — и ни одним человеком меньше!
Я сказал ему, раздосадованный:
— Гамов, а не опасаетесь ли вы, что при накоплении разногласий я постепенно стану не только вашим соперником, но и противником? Во всяком случае, никогда не признаю себя преступником — ни обычным, ни даже военным, хоть я и военный министр.
Он весело отозвался:
— Предоставим решение истории. Не возражаете?
— Что ещё остаётся? — буркнул я.
Вот такой был разговор, когда Гамов соединил свои разрозненные выпады против войны и военных в жёсткие формулы «Декларации о войне». А затем он опубликовал её как обращение ко всем народам и правительствам. И первым на неё, естественно, отозвался Фагуста. Но вот что примечательно — неистовый редактор «Трибуны» на этот раз неистовствовать не захотел. Он сдержанно отозвался о признании всех политиков и идеологов, причастных к войне, преступниками перед человечеством. Правда, сдержанность Фагусты содержала в себе и яд: ради высшей справедливости, иронизировал Фагуста, в преступную коалицию определены не только враги, но и друзья, и сами творцы «Декларации о войне» — самокритика, граничащая с самобичеванием! Неудивительно, что не все члены правительства согласились объявить себя преступниками.
Всё же шум вокруг «Декларации», начатый «Трибуной», был много меньше того шума, на какой надеялся Гамов. Внутри страны «Декларация» большого возбуждения не породила.
Зато за рубежом имя Гамова звучало повсеместно и повсечасно. И это были голоса возмущения и негодования. Слишком большую вину взвалил Гамов на слишком многих людей. Они не признали этой вины. И впали в ярость.
Гамов поставил перед враждебными правительствами вопрос, который я придумал для него в игре с Войтюком: каковы ваши условия мира? Правительства не торопились откликнуться. Они предоставляли арену спора учёным и журналистам. Двое деятелей из нейтрального Клура, профессор философии Орест Бибер и писатель Арнольд Фальк, попросили Гамова о личной встрече. Орест Бибер написал, что намерен в беседе с Гамовым выяснить сущность того удивительного биологического образования, которое называется человеком. Арнольд Фальк объявил, что заранее не придумывает ни одного вопроса, но вопросов появится ровно сто, чуть он взглянет на живого диктатора Латании. Ибо у него мысли возникают не по рассуждению, а по наитию, и не организованно, а вдохновенно. Короче, не по программе, а по озарению.
Гамов выслал разрешение на приезд. Оба гостя скоро появились в Адане.
Гамов попросил всех членов Ядра присутствовать на беседе. Оба были люди известные. Орест Бибер числился в модных мыслителях, был автором десятка книг. Одну из них: «Сущность несущественного» я прочитал, но не понял — она вся состояла из парадоксов, и каждый новый парадокс опровергал предыдущие. В моих мозговых извилинах они не умещались. Вторую книгу «Сексуальные влечения в мёртвой материи» я подержал в руках, но читать не стал: меня устрашили рисунки, иллюстрирующие текст. Готлиб Бар, любитель словесной эквилибристики и знаток учений, сконструированных по принципу: «Зайди ум за разум», убеждал меня, что я много потерял, не познакомившись с этой книгой крупнейшего философа современности. Я ответил, что потерь не нахожу, а если, наоборот, чего-то не приобрёл, то примирюсь с этим. Бар так и не понял меня. Его любимое присловье: «Любое неприобретение — это потеря», правда, у него и голова много крупней моей.
Что же до Арнольда Фалька, то я прочитал два его романа. Но тоже не был очарован. Он пишет ломом, а не пером. Такому человеку, по-моему, небезопасно появляться перед Гамовым после того, как тот объявил всех поклонников войны преступниками. У Гонсалеса Арнольд Фальк должен был числиться в ещё не опубликованном списке — и против его фамилии, наверно, проставлена крупная сумма в награду за казнь, какой его когда-нибудь удостоит Чёрный суд. Я спросил Гонсалеса, верны ли мои предположения. Он ответил с многозначительной краткостью:
— Обвинён. Но ещё не оценён.
Гости прибыли во дворец в сопровождении Готлиба Бара, наиболее эрудированного среди нас в философии и литературе. Поскольку о творчестве гостей разговора не началось, его эрудиция не пригодилась. Я сидел напротив гостей за длинным столом. Гамов восседал на председательском месте.
— Слушаю ваши вопросы, господа, — сказал Гамов.
Философ, высокий, белобрысый, узколицый, стал говорить, но писатель, темноволосый и темноглазый, длиннорукий и громкоголосый, вдруг прервал его.
Записываю беседу Гамова с гостями по памяти. И хоть не поручусь за отдельные слова, смысл передаю точно.