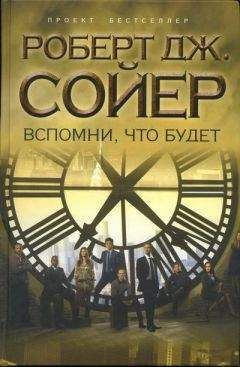Николай Романецкий - Сумасшедший в горах
А потом снова была дорога через ночь, и страшный вид Столицы, освещенной не морем огней и сияньем реклам, а вспыхивающими светлячками выстрелов и разрывов снарядов, мертвенным светом ракет и огромными языками пламени разгорающихся тут и там пожаров. А еще через полчаса, уже топая в пешем строю по какому-то переулку, в густом тумане наступающего утра мы нарвались на засаду, и первым, выронив автомат и нелепо взмахнув руками, упал на асфальт Тэд, весельчак Тэд, любимец всего моего взвода. Справа кто-то заорал диким голосом, и в голосе этом были лишь невыносимая мука и предсмертная тоска. Вопль этот оглушил меня и начисто убил во мне все человеческие чувства, остался только страх — животный страх за свою бесценную шкуру.
В себя я пришел в какой-то подворотне; сердце бешено колотилось от быстрого бега и пережитого ужаса. Что вы хотите от новоиспеченного лейтенанта, которому даже в карательных рейдах из-за аппендицита не пришлось участвовать, не говоря уже о чем-либо более серьезном и опасном. Я сидел в каком-то углу и, размазывая по лицу слезы и кровь из разбитого носа, прислушивался, не гонится ли кто за мной. Мне даже нечем было защититься, потому что и мой личный пистолет, и автомат, полученный перед началом операции, пропали. Никто за мной не гнался (в часы великой охоты зайцев не гоняют), и получился из меня стопроцентный дезертир.
Чуть позже, уже более или менее придя в себя, я решил, что никогда больше уже не смогу стрелять в моих сограждан, как бы их не называли. А потом я узнал место, где оказался, и что отсюда совсем недалеко до дома, где живут мои родители и где восемнадцать лет прожил я (видимо, в своем диком беге по улицам и дворам я инстинктивно стремился к родному дому).
И снова была заполненная страхом дорога, во время которой никто мне не встретился и никто не пытался в меня стрелять; и испуганные глаза моей матери, открывшей дверь на ошалелые звонки; и мои сбивчивые объяснения, прерываемые неудержимыми рыданиями; и ранение отца шальной пулей во время жестоких уличных боев на следующий день. Вечером же мы узнали, что в стране произошла революция, и к власти пришло народное правительство. Всем, кто не участвовал в карательных рейдах, была объявлена амнистия, и я, доведенный страхом чуть ли не до сумасшествия, наконец, облегченно вздохнул. Через месяц я уже работал в народной полиции. Там и я понял, что делу этому готов отдать всю свою жизнь. Мы ловили мародеров и спекулянтов, воров и грабителей, расплодившихся насильников и убийц, даже к самой мафии начинали подбирать ключи. Но пришла дождливая октябрьская ночь, и генералы совершили переворот. Все народные министры были расстреляны при попытке к бегству во время ареста, а премьер-министра Риммера вместе с женой и детьми сожгли из огнемета прямо у дверей их квартиры.
На следующий же день все мы — народные полицейские — были уволены. К счастью, у моей матери оказались кое-какие сбережения, и благодаря ей я смог стать частным детективом.
Я всегда считал, что в жизни мне здорово повезло. Работу свою я люблю и (отбросим ложную скромность) знаю неплохо. Она нужна людям, и, что немаловажно в нашем мире, нужна любой власти: и либералам, и фашистам, и коммунистам. А ладить с властями не так уж трудно — не берись за дела, касающиеся их интересов, и не суй свой нос в политику… И все же надо признаться, что год с небольшим работы в народной полиции был самым счастливым годом в моей жизни (не считая, конечно, тех двух месяцев знакомства с Исидорой). Что поделаешь: у каждого человека есть свои звездные часы, и когда они уходят в прошлое, ему остается только пребывать в светлой грусти щемящих душу воспоминаний…
Разбудил меня толчок в плечо. Я открыл глаза и увидел Гонзалеса.
— Уже ознакомились? — спросил он, саркастически улыбаясь, отобрал у меня красную папку и снова пошел к пилотам.
Я выглянул в иллюминатор и обомлел: вокруг были горы. Они закрыли собой весь мир, возвышаясь и слева, и справа, и спереди, и сзади — везде, куда бы не падал взгляд. Как всегда, при виде их заснеженных вершин внутри у меня что-то оборвалось, сердце заныло сладко-сладко, и мысленно я уже карабкался хотя бы вот на эту, так похожую на сидящего человека в белой шапке, и заботило меня лишь одно: надежна ли страховка? Горы были моей второй любовью, и, хоть выбраться к ним удавалось нечасто, встречи эти были всегда желанны и восхитительны…
Мы летели среди гор еще минут пятнадцать, а потом впереди выросла громадина, на вид весьма странная: вместо острой верхушки ее венчала небольшая плоская площадка. Вскоре я различил на ней какие-то строения. Вертолет начал снижаться, видимо, мы были у цели. В салон вернулся Гонзалес.
— Метеостанция, — сказал он, показывая на приближающиеся оранжевые домики.
Я еще раз проверил содержимое карманов и портфеля. Ничего такого, что могло бы дать пищу для подозрений относительно того, Смит я или не Смит, там не было. Пистолет уютно устроился под мышкой. Выполненный в виде авторучки Усни! — маленький баллончик с усыпляющим аэрозолем открыто торчал из нагрудного кармана. Красная папка была отдана Гонзалесу.
Шум двигателей вдруг изменился, они взвыли, и через несколько мгновений я почувствовал легкий толчок — мы были на метеостанции. Гонзалес распахнул створку люка, и я, не дожидаясь, пока спустят лестницу, спрыгнул вниз и увяз по колено в свежевыпавшем, поразительно белом снегу (хорошо, что догадался дома обуть горные ботинки). Дышалось легко и свободно, словно бы воздух и не был слегка разреженным. И тут я увидел метеоролога.
От симпатичного оранжевого домика по снежной целине бежал к вертолету, высоко вскидывая длинные ноги, парень в оранжево-желтой куртке.
— Ну наконец-то! — воскликнул он радостно. — Я уж тут чуть по-волчьи не выл… Да, извините! Джон Маккин, — представился он, — главный настоятель здешней обители.
— Джерри Смит, — сказал я. — Радист-альпинист.
Мы пожали друг другу руки.
— Эй, друзья, — крикнул из люка Гонзалес. — Потом познакомитесь… Погода, передают, портится, а нам еще обратно лететь. Давайте-ка быстро разгружаться.
Из люка посыпались на снег тюки и пластмассовые ящики. Метеоролог заглянул в пилотскую кабину и тут же отошел. Вид у него был несколько удивленный. Но тут он заметил, что я на него смотрю, и на лице его сразу же появилась приветливая улыбка. Разгрузка заняла всего минуты две, после чего Гонзалес помахал нам рукой и закрыл люк. Тючок с электроодеждой для меня он так и не выкинул. Двигатели снова взвыли, вертолет поднялся и быстро исчез за ближайшей вершиной.
— Как тут у вас с одеждой? — спросил я метеоролога.