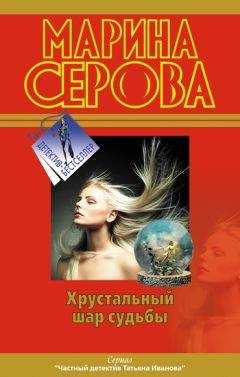Рэй Брэдбери - Попугай, который знал Папу
Шелли Капон с опаской подал мне клетку и ее покрывало.
— В сторону! — заревел я.
Их всех словно отбросило еще на фут.
— Теперь слушайте, — громко сказал я. — Когда я исчезну отсюда и укроюсь в надежном месте, вас всех начнут вызывать по одному, и вы получите возможность познакомиться с этим другом Папы и заработать на сенсации.
Я лгал. Я слышал это в своем голосе. Но надеялся, что они этого не слышат. Чтобы они не успели разобраться, я заговорил быстрее:
— Сейчас я отправлюсь. Смотрите! Видите? Я держу попугая за горло. Жизнь его сейчас зависит только от вас. Ну, мы пошли. Шаг, второй. Осталось полпути. — Я шел между ними, и они не дышали. — Шаг, второй, — продолжал говорить я, между тем как мое сердце билось у меня во рту. — А вот и дверь. Спокойно. Никаких движений. В одной руке я держу клетку. В другой — птицу…
— Львы бежали по желтому песку пляжа, — сказал попугай; горло его вибрировало под моими пальцами.
— О боже! — простонал скорчившийся у стола Шелли. По его лицу текли слезы. Возможно, не только из-за денег. Возможно, Папа что-то значил и для него. Он простирал руки ко мне, попугаю, клетке, призывая нас вернуться. — О боже, о боже! — Он зарыдал.
— Только скелет огромной рыбы лежал у причала, и кости скелета ярко белели в лучах утреннего солнца, — сказал попугай.
— Ох, — выдохнули все.
Я не стал смотреть, плачет ли кто-нибудь еще. Я перешагнул порог. Затворил дверь. Бросился к лифту. О, чудо! Он стоял здесь, и внутри него дремал лифтер. Преследовать меня никто не решился. Наверно, понимали, что ничего не получится.
Войдя в лифт, я посадил попугая в клетку и накрыл ее платком с надписью МАМА. И лифт медленно двинулся вниз, сквозь будущие годы. Я думал о тех годах, о том, как и где я спрячу попугая, и как тепло ему будет у меня в любую непогоду, как хорошо я буду его кормить, и как, раз в день, буду заходить к нему и разговаривать с ним через платок, и никто никогда его не увидит, ни газеты, ни журналы, ни киношники, ни Шелли Капон, ни даже Антонио из кафе «Куба либре». Так будут проходить дни, недели, и вдруг, ни с того ни с сего, меня охватит страх, что попугай онемел. Тогда я проснусь среди ночи, прошаркаю в его комнату, подойду к клетке и скажу: «Италия, год тысяча девятьсот восемнадцатый…» И старческий голос скажет из-под слова МАМА: «Той зимой снег слетал с краев горы сухой белой пылью…» — «Африка, год тысяча девятьсот тридцать второй». — «Мы достали ружья и их смазали, и они были светло-синие и блестящие и покоились у нас в руках, и мы ждали в высокой траве и улыбались…» — «Куба. Гольфстрим». — «Эта рыба всплыла и подпрыгнула до самого солнца. Все, что я когда-либо думал о рыбе, было в этой рыбе. Все, что я когда-либо думал о прыжке, было в этом прыжке. Они вместили в себя всю мою жизнь. Это был день солнца и воды и жизни. Мне хотелось удержать все это в руках. Мне хотелось, чтобы это не кончилось никогда. И однако, когда рыба упала, и вода, белая, а потом зеленая, над ней сомкнулась, все кончилось, кончилось…»
К этому времени мы уже спустились в вестибюль. Двери лифта раздвинулись, я выскочил; не выпуская из рук клетку под ярлыком МАМА, быстро прошел через вестибюль, вышел на улицу и взял такси.
Оставалось самое трудное и самое опасное. Я знал: ко времени, когда я доберусь до аэропорта, его охрана будет уже предупреждена. Можно было не сомневаться, Шелли Капон наверняка сообщит властям, что из страны собираются увезти национальное сокровище. Нужно было придумать какой-то способ пройти с попугаем через таможню.
И мне, как человеку литературно образованному, память помогла сразу найти его. Я остановил такси на минутку и купил банку черного крема для обуви. И я стал делать Кордову неузнаваемым. Я выкрасил его с ног до головы в черный цвет.
— Слушай, — наклонившись к клетке, прошептал я, между тем как мы мчались по улицам Гаваны. — Не вернуть.
Я повторил несколько раз, чтобы он разобрал получше. Звучание этих слов, по всей вероятности, было для него новым, потому что, думал я, Папа никогда бы не стал цитировать соперника средней весовой категории, которого он нокаутировал еще много лет назад. Пока слова «записывались», под платком царило молчание.
Наконец…
— Не вернуть, — хорошо знакомым тенором Папы, — не вернуть, — сказала черная птица.