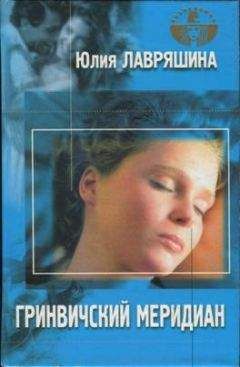Андрей Столяров - Наука расставаний
Извини, я хочу задать тебе один вопрос. Я, наверное, не имею права его задавать, но ответ в данном случае для меня очень важен. Только ответь, пожалуйста, искренне. Да, я знаю, я знаю, что ты всегда отвечаешь искренне. И, когда говоришь, что «мы эти ниточки обязательно свяжем», и, когда всего через две недели спокойно отворачиваешься и уходишь. Кстати, я тоже пытаюсь быть с тобой предельно искренним. Это, вероятно, ошибка, предельно искренни либо святые, либо безнадежные идиоты. Не случайно эти две категории естественно переходят друг в друга. А вопрос звучит так: скажи, пожалуйста, когда ты расставалась со мной, то ты просто ушла, ну, как бы это точнее выразиться, в никуда или, может быть, у тебя появился кто-то другой? Нет, не глупость, ответь, пожалуйста, я тебя очень прошу. Спасибо, спасибо, мне даже дышать стало легче. Почему ты считаешь?.. Нет-нет, ты в данном случае просто судишь как женщина. У мужчин все иначе, у них психология в этом смысле принципиально иная. Мне, например, все равно, кто там у тебя был раньше. Ну, почти все равно – хоть пятьдесят человек, хоть сто, хоть четыреста. Для меня это и в самом деле почти не имеет значения. Но вот если бы у тебя появился кто-то, скажем, сейчас…
Подожди, а что это мы – сели за столик, и ничего не взяли. Девушка, пожалуйста, три кофе: два с сахаром и один без сахара. Извини, я и в самом деле, наверное, неловко выразился. Извини, ради бога, я пока еще очень плохо соображаю. У меня действительно какое-то сумеречное состояние. Я не то, чтобы в обмороке до сих пор, я уже достаточно хорошо себя контролирую, разве что иногда прорывается нечто, не вполне адекватное, но пока я еще воспринимаю все несколько обостренно. Похож, наверное, на человека, у которого медленно выдирают из груди сердце: лопаются нервы, сосудики, связки внутри тоненькие какие-нибудь. Боль такая, что ничего даже не различаешь вокруг себя. Мне без тебя плохо, мне плохо без тебя, мне без тебя очень плохо. Мне без тебя плохо, как не было, вероятно, еще никогда в жизни. Мне так плохо, что хуже, по-видимому, уже и быть не может. Я ведь даже на уроке, знаешь, иногда замираю, и вдруг вижу, как ты бежишь по перрону, опаздывая на московский поезд. Я тогда, кстати, думал, что мы уже никуда не уедем. Или – внизу, на улице, ты машешь мне рукой на прощание. Это уже в Москве, снег, солнце, пустой гостиничный номер из двух смежных комнат. И я счастлив, счастлив, как тоже, наверное, еще никогда в жизни. Наверное, поэтому у меня такой долгий обморок. Я просто не могу без тебя жить, извини за это банальное выражение. Почему-то когда говоришь о любви, слова становятся какими-то пошлыми. В книгах они звучат, а в обыденном разговоре выглядят просто нелепо. Вдохновения, видимо, не хватает. Пошлость – это вдохновение бездарного человека. Наверное, я бездарен, вот и получается пошлость. Приходится, тем не менее, говорить. Других слов у меня просто нет.
Вот, в чем тут дело. Я сейчас повис над пропастью, уцепившись за такую тоненькую-тоненькую былинку. Стебелек у нее слабенький, корешки подрагивают и постепенно вылезают из почвы. Рано или поздно они оборвутся, и дальше – бездна. Насмерть я, быть может, и не разобьюсь, но вот покалечусь, скорее всего, серьезно. Хотя, кто его знает, может быть, даже и насмерть. Ведь нельзя заранее предугадать результаты падения. Я тут на днях мыл у себя окна в квартире, – скоро зима, холодно, надо бы уже запечатываться, – и вот когда, стоя на подоконнике, немного высунулся наружу, вдруг пришло в голову, что как это, в сущности, элементарно. Всего один шаг, и через три секунды меня не будет. Все-таки у нас достаточно высоко, внизу – асфальт. У меня как-то приятель вот также сдуру, ну перебрал, разумеется, ну взял и выбросился. Обиделся на что-то в компании, на что – теперь уже, конечно, не вспомнить, подошел, знаешь, к окну, ни слова не говоря, и – перевалился. Мы так и замерли. Минуту, наверное, никто не дышал. А потом смотрим – это девятый этаж; метра полтора вниз – крыша другого корпуса. Упал на битум, прилип, ворочается, как пьяная муха. Еле-еле потом его отодрали… Я только прошу: не принимай этого чересчур уж серьезно. У меня два таких якоря в жизни, что никакие такие шаги невозможны. Во-первых, родители; ты же представляешь, что с ними будет. Ну, а во-вторых, это, разумеется, Ангелина. У нее ведь, наверное, тоже будут какие-то свои трудности в жизни. Будут, будут, конечно, без этого не обойдется. И вот так – знать, что есть некий элементарный выход. Как отец, например. Не хочу быть для нее гидом смерти.
Прости, у меня сегодня какое-то муторное настроение. Бывают такие моменты, когда все кажется абсолютно бессмысленным. У меня сейчас, вероятно, именно такой период. Вот ты, кажется, рядом, только протяни руку, но ни коснуться тебя нельзя, ни почувствовать по-настоящему. А ведь так хочется – чтобы по-настоящему. Очень хочется убедиться, что ты действительно существуешь. Что ты – не просто бесплотный голос по телефону. И что ты – не ложная память, подсовывающая вымышленные подробности. Скорее уж все остальное вокруг вымышленное: этот город, дожди, лицей, мои нынешние лоботрясы. Вот мне все это теперь кажется ненастоящим. Как раз сегодня был у меня довольно-таки неприятный разговор с Фосгеном. Что-то мы с ним друг друга не слишком хорошо понимаем. Я ведь шел к нему как специалист и собирался быть исключительно специалистом. То есть, никаких там рассуждений о смысле жизни, никакого анализа, никаких сложных нравственных ситуаций. Вроде того, что «я не старуху убил, я себя убил». Чисто механическое затверживание дат, сюжетов, позиций, литературных оценок. И вот даже это, оказывается, никому не нужно. А что нужно? А нужно, чтобы оценки в журнале выглядели более-менее удовлетворительно. А знают они там хоть что-нибудь – это дело второе. Ведь не каждому же потом придется писать сочинение на экзаменах. В общем, какой-то неприятный был у нас разговор. Неприятный, бессмысленный, трудный, какой-то абсолютно тупой. То ли Фосген здорово переменился, то ли я сам стал совершенно другим.
Скорее всего, у меня смещены сейчас какие-то координаты. Вот я отвечаю Фосгену, а думаю только о том, что вечером мы с тобою увидимся. Из-за этого и разговор приобретает нереальный оттенок. Фосген кипятится, шипит, а все это – точно отзвуки потустороннего мира. И весь остальной день тоже становится призрачным. Я только и делаю, что считаю часы, оставшиеся до встречи. Вот четыре часа осталось, вот три, вот два часа, вот всего тридцать минут. Ну, и еще так минут на тридцать ты, разумеется, опоздаешь. Это уж точно. По опозданиям тебе вообще нет равных. Сорок четыре минуты я ждал тебя однажды на станции «Невский проспект». Достижение зафиксировано. Это когда мы с тобой собирались ехать в Москву. И час десять, минута в минуту, у Алины в квартире. Ты тогда, кажется, села в метро не на ту ветку. Рекорд для закрытых помещений. До сих пор так и не превзойден. У меня ощущение, что время ты игнорируешь принципиально. И, наверное, правильно; время – это самая тираническая из диктатур. Еще никому не удавалось освободиться от времени. Не случайно ведь и Конец света – это время, когда «времени уже не будет». Ты можешь представить себе время, когда «нет времени»? У меня, например, сейчас именно такое странное состояние. Когда нет сцепления с текущей реальностью. Высчитываю каждый час, а собственно время как бы отсутствует. А вместо него – дождь, сумерки, пустота, которая, видимо, уже ничем не заполнится.