Владимир Рыбин - Симбиоз
— Мы обязательно должны приносить ззумам сладкие плоды с вершин деревьев. Надо же кормить своих слуг. Кто больше приносит, у того мягче постель…
— Все ясно, — сказал Брянов. — Вырождающийся разум.
— Почему именно вырождающийся? — спросил Устьянцев.
— Без обязанностей разум деградирует. Этот симбиоз — аи-ззумы, который им кажется всеобщим счастьем, начало конца. Разум вырождается в инстинкт…
— Как дела? — запросили со звездолета. Теперь на экране было лицо главного психолога Большакова.
— Робот Нины по-прежнему молчит? — в свою очередь, спросил Брянов.
— Молчит.
— Значит, непосредственной опасности пока нет.
— А если робот как-нибудь нейтрализован?
— Он бы успел подать сигнал бедствия. В любом случае успел бы.
— Вы что же — висите и ждете?
— Ведем переговоры с птицами.
— Ну и как? — В голосе Большакова была ирония.
— Узнаем, сообщим, — ответил Брянов и демонстративно отвернулся от экрана связи с звездолетом.
Робот между тем расспрашивал о ззумах. Это были те самые четырехлапые черные жуки, которых космолетчики случайно увидели утром. Жуки пеленают умерших аев в коконы, а потом за этими коконами приползают уххи. На вопрос, почему ззумы выполняют эту работу, последовал ответ, что они боятся уххов и служат им.
А время шло. Солнце поднималось все выше, нагревая воздух над поляной. Переговариваясь, робот медленно переполз в тень леса, что, впрочем, не вызвало беспокойства аев. Похоже было, что они вообще ничего не опасались, рассказывали о себе, о ззумах с подкупающей откровенностью. И ничего сами не спрашивали. Тогда робот задал прямой вопрос: не видели ли они, куда делся вышедший из аппарата человек? Спрашивал он это долго, объясняя и так и этак, стараясь, чтобы его правильно поняли.
Слушая эти монотонные пересвисты, Брянов оглядывал полиэкран. Все на нем было без изменений: сверкающая в солнечных лучах жесткая гребенка леса, порхающие птицы-мотыльки, поле, поросшее жесткой травой, испещренное воронками, взбугренное. И в то же время ему показалось, будто что-то изменилось на этом поле. Брянов еще и еще раз обежал глазами экранные клеточки и вдруг заметил, что один из холмиков вроде бы вырос в размерах, и трава на нем шевелилась, словно под ветром.
Вдруг этот холм раскололся, и из него вертикально вверх полоснуло слишком хорошо знакомое космолетчикам оранжевое пламя плазменного излучения. И вслед за этим сразу же, без паузы, зачастил сигнал бедствия.
Робот, разговаривавший с аями, бросился к вспучившемуся холму. Аи шарахнулись в другую сторону, в лес, расселись на ветках рядками, как зрители в театре, заинтересованно следили за происходящим. Похоже, их вовсе не пугало пламя, и страшились они только одного — пересекать невидимую черту, обозначенную линией воронок и холмов.
Пламя опадало медленно. Но еще до того, как оно опало, из холма поднялось что-то бесформенное и пошло к центру поля. С него ошметками опадала черная дернина. Скоро в нем можно было узнать робота. Белая паутина космами свалявшегося войлока опутывала его, свисала с излучателей и антенн, волочилась следом. На вытянутых манипуляторах он нес большой белый кокон. Второй робот подбежал к нему, ловко перехватил кокон, и они один за другим еще быстрей покатились к тому месту, где в нескольких метрах от поверхности помигивал желтый импульс, обозначавший конец нити.
"Вибрик" осел немного, когда оба робота повисли на нити, качнулся и медленно пошел вверх, втягивая в себя тяжелую ношу.
— Хочешь увести аппарат? — спросил Устьянцев, когда они поднялись уже на добрый километр.
— Потом вернемся, — ответил Брянов.
— Я бы не спешил. Выясним, что с Ниной…
— Спит Нина, спит в коконе. — Он кивнул на ее персональный пульт, где теперь светились все приборы, обозначая дыхание, температуру, давление крови.
— Слишком беспокойно спит. Кошмары. — Устьянцев, в свою очередь, кивнул на небольшой светившийся малиново прибор — психометр. — И понаблюдать надо бы за полем. Другого такого случая может не представиться.
Брянов поморщился и перевел аппарат в режим равновесия.
Через четверть часа в карантинной камере они разрезали упругую паутину кокона. Нина проснулась, и сразу резко подскочили все параметры ее организма: участилось дыхание, даже повысилась температура тела.
— Какой ужас! — вскрикнула Нина. — Они их едят!
— Кто? — спросил Брянов, удивляясь тому, что легкий скафандр Нины был совершенно цел и что облепленные паутинной слизью легкие антенны переговорных устройств работали исправно.
Роботы хлопотали над анализами паутинной ткани, слизи, воздуха в камере, а Брянов тщетно пытался оттереть прозрачный пластик шлема, чтобы увидеть наконец лицо Нины.
— Кто кого ест? — переспросил он.
— Ззумы… аев, — с отвращением выдохнула Нина.
— Уххи?..
— Нет никаких уххов, совсем нет. Это выдумка.
— Чья? — усмехнулся Брянов. Он не испытывал никакой тревоги, а необычные названия — аи, ззумы, уххи — его просто забавляли.
— Да этих же… людоедов.
— Людоедов?
— Как их еще назвать?!
— Все правильно, — сказал Брянов. — Обычный симбиоз. Одни организмы что-то дают другим и что-то берут от них.
— Это не симбиоз! — выкрикнула Нина. — Это обман!
— Успокойся. — Брянов погладил ее по плечу. — Все изучим, во всем разберемся.
— Нет, тут надо вмешаться.
— Вмешаться? Во что?
— В их… взаимоотношения.
— Так сразу и вмешаться…
Он наконец отчистил шлем и увидел глаза Нины — большие, почти безумные. И впервые забеспокоился, но как-то странно — тяжело, мучительно, словно сквозь сон.
— Почему ты ушла из «вибрика», оставив все открытым? — спросил он. — Куда ты шла?.. Можешь объяснить?..
— Могу, — нехотя отозвалась Нина и надолго замолчала.
Брянов терпеливо ждал. Постукивали роботы, торопясь выполнить многочисленные свои дела. Часто пульсирующе гудел «вибрик», нейтрализуя гравитацию.
— Могу, — повторила она. — Эта… похожая на Сонечку… просила отнести ее в лес… Она так плакала…
— Ну и что?!
Брянов хотел сказать, что это не объяснение, что его интересуют не внешние причины, а мотивы противоестественных для космолетчика поступков.
— А ты бы не пожалел? — опередила его Нина. — Ты бы не пожалел, когда плачет и говорит, что если останется на поле днем, то ее заберут уххи? Разве мы совсем растеряли доброту — основную человеческую добродетель? Разве недоброжелательство — первая заповедь космолетчика?..
— Но нельзя при этом нарушать порядок, рисковать…

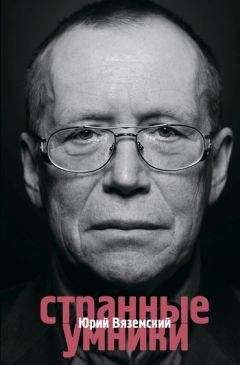

![Владимир Немцов - Аппарат "СЛ-1" [= "СЛ-1"]](/uploads/posts/books/71517/71517.jpg)