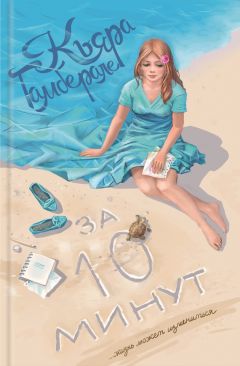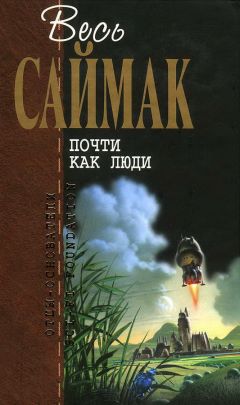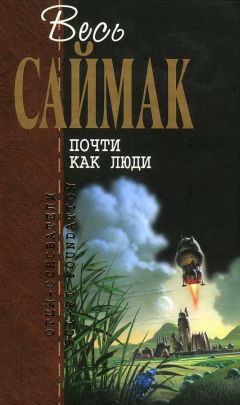Владимир Осинский - Стоянка
- Не хочу больше служить, не желаю, чтобы всякий дурак мог мне приказывать только потому, что он называется моим начальником! Разве я не прав? - воинственно спрашивал Поэт.
- Прав, прав, - успокаивала жена.
Большинство других людей думали иначе. Они рассудительно наставляли Поэта:
- У вас светлая голова, прекрасный слог... Говорят, вы талантливы... При слове "талантливы" такие люди с сомнением пожимали плечами. - Почему же вы не хотите работать?
- Я работаю, и достаточно много, если хотите знать, - сердился Поэт. - Я служить не хочу!
Тут разумные люди недоуменно переглядывались и оставляли его в покое. Дома он рассказывал обо всем этом с победоносно- насмешливым видом, довольно искусно передразнивая "этих практичных и благонамеренных людишек". Жена делала вид, что ей тоже весело, а про себя озабоченно думала, что Поэт сильно похудел, издергался и по ночам иногда вскрикивает. И если уж быть честным до конца, то у нее были все основания для беспокойства.
Дело было совсем не в необходимости отказываться от многих вещей, которые раньше они могли себе позволить. Намного хуже оказалось другое: этот человек - Поэт - внутренне надломился. Причин хватало. Очень многие бывшие его сослуживцы, первое время часто приходившие или по крайней мере звонившие по телефону, приходили и звонили все реже. Раньше остальных Поэта забыли те, кто прежде находился у него в подчинении. Кроме одной славной девушки, которой он давным-давно сделал доброе дело, хотя по существующим правилам делать его не полагалось. Только этого оказалось слишком мало... Оставались еще старые испытанные друзья времен далекой юности, но у всех - семьи и работа, отнимавшие много времени и сил. Да и полуторамиллионный город, раскинувшийся на десятки километров по обе стороны реки, с его метрополитеном, длинными расстояниями, выросшими за последние годы жилыми массивами и сотнями тысяч электронных монстров - телевизоров, которые прочнее самых крепких цепей удерживают по вечерам в квартирах-ячейках высотных домов, разъединяя людей вернее и беспощаднее, чем кровная вражда... Этот громадный город делал свое дело.
Отчужденность, думал Поэт, отчужденность... Она страшнее радиации, телесных недугов, экологического кризиса. В ней все зло, и мы перед нею бессильны, беспомощны, словно слепые, глупые котята... Он немного кривил душой. Дело в том, что Поэт привык к искренним или завистливо-почтительным проявлениям явного восхищения перед его остроумием, талантом, легким веселым характером, щедростью и естественным, как смех ребенка, великодушием, перед широтой души и удивляющим окружающих умением делиться с людьми всем, чем он был богат. Упрямо не признаваясь себе в том, что так называемые жизненные неурядицы - неизменный объект его злых насмешек - больно ударяли по самолюбию, Поэт чувствовал себя все более опустошенным и одиноким.
Он несправедливо обидел некоторых из ранее близких людей, намеренно отдалился от других, а рыжеволосого приятеля однажды попросту выгнал из дому вместе с его супругой - и поступил очень дурно, ибо они пришли к нему с самыми добрыми намерениями. Но только начали - предельно тактично и чрезвычайно чутко - наставлять Поэта на истинный путь, как тот встал и изысканно- вежливо подал красивой подруге приятеля ее дорогое пальто.
Главное же - поэма не хотела укладываться в слова, и, привыкший одухотворять предметы и явления, он думал о ней, как о живой, что поэма права: слова рождались скучные, стертые, невыразительные.
Псина по-прежнему жила на Стоянке. Она тосковала по Тому, Кто Понимает. Несколько раз приходила к знакомому подъезду в надежде встретить его и с восторгом и благодарностью ощутить волнующее прикосновение любимой - и любящей, в этом она не сомневалась, - руки. Однажды встреча состоялась. Громадная мудрая собака мгновенно превратилась в нелепого щенка, самозабвенно повизгивающего, прыгающего, скулящего радостно и жалобно. Человек был растроган. Он гладил собаку, тормошил ее, хватал за грозную, неудержимо смеющуюся пасть, теребил крепкие короткие уши.
- Псина ты моя, чертова моя проклятая псина, чтоб тебе провалиться, не забыла меня, дура лохматая, умница моя хорошая, дрянь ты грязная, замечательная моя... - Так он бормотал не слыша себя, и глаза у человека были влажными. Собачья же душа полнилась таким неистовым восторгом, что загляни в нее сейчас кто-нибудь - он бы испугался: вот-вот разорвется ликующее песье сердце.
Замолк человек, опомнился, поник.
- Ну, иди, иди, Псина, - сказал тихо. - Твое дело - ясное, честное, собачье. Не стоит тебе с этим соприкасаться.
И заставил себя войти в лифт и нажать кнопку пятого этажа.
Собака, которую звали Псина, долго стояла у подъезда под холодным осенним дождем. Это была вторая осень после той, когда они встретились. Поздняя уже осень, неудержимо плывущая вместе с нудным непрекращающимся дождем в угрюмую промозглую южную зиму.
Потом собака ушла, нехотя добрела до Стоянки, где блестели отлакированные дождем машины. Неунывающий Пудель кинулся было к ней, приглашая к суматошной забаве. Псина щелкнула устрашающей пастью и, не увернись он в последний момент, наверняка прокусила бы толстую шкуру.
...Лаггар явился где-то на исходе ночи. Не успев проснуться, собака вскочила, в ужасе и ярости зарычала, завыла, заскулила, залаяла... Изнутри в дверь сторожки ударилось что-то тяжелое.
- Чтоб тебе сдохнуть, проклятая! - послышался голос сторожа.
Псина замолчала. Мы, люди, сформулировали бы ее мысли так: "Интересно, как бы ты сам взвыл, если б слышал то, что слышу я..."
И настала для человека, который жил на пятом этаже серого дома-коробки, ночь безжалостного кризиса. Они словно сговорились - неудачи, большие и малые неприятности, подлинные несчастья, настоящие беды - и давящей тяжестью навалились на душу и мозг.
Поэту вспомнилась дочурка, много лет назад умершая на его руках от неизлечимой болезни. Он вновь увидел (давно этого не было!) недоумевающий, полный мольбы и страдания взгляд огромных от боли детских глаз. Они просили, они требовали помощи, они молили и не понимали, почему нельзя, невозможно помочь... Поэт скрипнул зубами, едва не раскрошив их, достал из шкафа бутылку коньяку и выпил первую рюмку, а следом - вторую... Полураздетый сидел на кровати, не замечая январской стужи, которой веяло от окна. Он страстно и терпеливо ждал одурманивающего действия алкоголя. Опьянение не приходило. Хуже того, теперь он думал об отце, умершем внезапно, среди ночи, в другом конце города, и как метался на пустынной улице в поисках случайной машины, как бежал по выщербленным широким ступенькам старого дома, ворвался в комнату - и поразился лицу покойного, строгому, с едва очерченной на губах понимающей усмешкой... Еще три рюмки подряд - все то же бессилие хмеля, та же обнаженная ясность мысли, вереница лиц тех, кого он знал и любил, больше или меньше - неважно, он любил их, а они ушли в небытие. Что ж, уйдет в свое время и он. Все живущие ныне уйдут. Так для чего все?.. Ясность, непереносимая, болезненная, ранящая ясность мысли! Обманчивая ясность, понимал Поэт. Наверное, я заболел. Нет, я устал. Как я устал!..