Люциус Шепард - Сеньор Вольто
x x x
Камера, в которой я очнулся, была пуста. Ни койки, ни унитаза; только дыра-сток в центре слегка вогнутого пола. Стены отстояли друг от друга не намного больше, чем мои разведенные руки, и были выкрашены в канареечно желтый цвет, который, казалось, усиливал вонь застарелой мочи. Роскошный золотистый послеполуденный свет косо сочился в узкое оконце, которое было сделано слишком высоко, чтобы дать вид на что-либо кроме прямоугольника безоблачного неба. Каждая часть моего тела болела. Засохшая кровь хрустела на губах. Время от времени мимо запертой двери камеры проходил охранник, в сопровождении спереди и сзади своих тенеподобных вариантов. Этот эффект, обратил я внимание, поблек - тени были, словно едва видимые газовые мерцания. Двигаясь осторожно, я привалился к стене, и уселся свесив голову, придавленный пониманием, что я человек конченный. Лучшее, на что я мог надеяться, это пытки, за которыми последует длительный срок в тюрьме. Зная грубую бесчувственность Эспиналя, прислушиваясь к бесчисленным историям, связанным с жестоким самовластием, с которым он действовал в стенах тюрьмы, я сомневался, что могу надеяться даже на это. Я с горечью и страстным желанием думал о Марте, и о своих двух сыновьях. О своем отеле я тоже думал. Я воспринимал его как некую тюрьму, что определяла и ограничивала меня, но теперь, попав в официальный застенок, этот сине-зеленый куб с океаном, распростершимся рядом, казалось, воплощал самую суть свободы. Слезы хлынули из моих глаз. Мне некого винить, кроме самого себя. Если бы я относился к Марте с уважением и любовью, она никогда бы не предала меня. Подобные мысли накапливались в моей голове, словно топкое месиво, словно куча несчастий и самоотрицания, и в слабеющем свете я погрузился в ступор, едва сознавая перемежающиеся голоса людей, проходящих по коридору. Один раз я поднялся, чтобы помочиться в дыру. Остаток дня я просидел без движения, опустошенный и униженный, скорее развалина, нежели мужчина.
Было уже темно, когда по коридору к моей камере подошел Эспиналь. Он наклонился к глазку, уставился сквозь решетку с непроницаемым лицом. Невыразительным, как у жабы, вы могли бы сказать. Однако и лицо жабы окрашено неким недоброжелательным простодушием, и хотя Эспиналь имел определенное сходство с упомянутым созданием, то ни недоброжелательство, ни триумф, вообще никакая эмоция, не выступала на поверхность из его глубин, словно присутствовало лишь его обрюзгшее тело, а душа плавала где-то в другом месте, вероятно прицепленная к одной из тех слабых теней, что происходили от него. Он молчал и тишина, казалось, образовала вокруг нас громадное пустое пространство, создав вселенную, населенную лишь единственным палачем-пытателем и его жертвой. Он был одет, словно собирался на вечер. Темные, тщательно отутюженные брюки в обтяжку и спортивная рубашка по модели батика. Золотая цепь обтягивала его коренастую шею. Электрошокер заткнут за пояс.
Мой инстинкт говорил, что надо умолять его, уговаривать. Где, хотел я его спросить, найдет он более эффективный канал для своих наркотиков? Теперь, когда я у него в рабстве, мне придется доказать, что я весьма покладистый хозяин. Любая комната, какую он пожелает, любое количество комнат может быть его в любой час дня и ночи. Однако молчание давило мне на грудь, сжимало адамово яблоко, душило меня, и я не мог заговорить. Достаточно странно, я основательно предчувствовал то, что должно произойти, и когда Эспиналь открыл дверь, а не просто заслонку, я сидел напряженный, словно ребенок, ожидающий наказания.
Эспиналь не позаботился закрыть дверь за собой. Он отцепил скотский шокер и показал его мне, позволяя свету играть на блестящем черном цилиндре. Улыбка приподняла уголок его рта. "Ты действительно глупый кусок дерьма, Аурелио", сказал он.
Хотя эти слова не обещали жалости, то, что он хоть каким-то образом признал меня, породили каплю надежды. Я выстроил свои аргументы, упорядочив их в логической прогрессии, но прежде чем я сформулировал свое желание умилостивить его, Эспиналь ткнул шокер мне в живот и нажал спуск. Мои воспоминания о следующих часах фрагментарны. Я припоминаю, что Эспиналь стоит над моим распростертым телом, плюет мне в лицо, с треском бьет меня кулаками, проклинает меня, его пухлые щеки в пятнах гнева. Несколько раз он прерывает свои усилия и в одном таком случае, сидя спиной к стене и куря сигарету, он информировал меня о своих планах жениться на Марте и тем стать собственником отеля.
"Она чертовски хорошо трахается", сказал он, "однако в мире полно чертовски хороших трахалок. Я бы никогда не связался с нею, если б не отель. Ты не понимаешь, как по-настоящему пользоваться ни своим отелем, ни своей женщиной, Аурелио."
Он сделал паузу, выдул колечко дыма, и посмотрел, как оно расплывается. "Женщины", сказал он задумчиво. "У них есть свои тонкости, свои странности. Но в глубине души они лишь желают быть в безопасности. Наверное, если б ты был сильнее, если б ты был крепостью для Марты, а не соломенной хижиной... наверное тогда она не стала бы искать меня."
Я, должно быть, произвел какой-то звук, ибо он потрепал меня за плечо и сказал: "Не пытайся говорить. Ты только изнуришь себя, а у нас впереди еще долгое путешествие, у тебя и у меня." Он затоптал свой окурок на полу и испустил вздох - мне кажется - удовлетворения. "Я намеревался устроить тебе исчезновение, но твой припадок темперамента сделал вещи гораздо легче. Никто не затеет расследования, если с тобой что-нибудь случится сейчас."
В течении пытки Эспиналь часто пользовался скотским шокером, но несмотря на мучительную боль, на спазмы, на желчь, стоящую в горле, на дрожание членов, вместо того, чтобы слабеть и ментально расстраиваться, я становился все сильнее, все целеустремленнее в своем возмущении, как если бы некая часть моего бытия получала положительный заряд, становясь все воодушевленнее при каждом разряде. Цветные тени, что перед появлением Эспиналя в моей камере почти все исчезли, теперь проистекали от него постоянным потоком, ясно видимые, давая мне предвидение мучений, которые он вскоре может обрушить на меня, и так уж получилось, что после очередного перекура, когда он наклонился, чтобы завязать шнурки, я уже проследил, как это сделала его тень и смог воспользоваться предоставившейся возможностью, выбросив вперед правую ногу и жестко хлестнув его в челюсть. Он, застонал и свалился на пол, но был еще в сознании. Не обращая внимания на боль, сопровождавшую мое последнее движение, я вскарабкался на ноги, схватил его скотский шокер и вонзил ему в грудь, разряжая его снова и снова в надежде, что взорву его дряблое сердце. Глаза его закатились. Толстые нити слюны зазмеились между губ. Живот вздымался и дергался. Но он все-таки отказывался умирать.
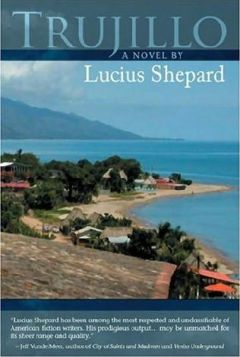



![Тамара Малышева - Будь моим одиночесвтом [СИ]](/uploads/posts/books/5239/5239.jpg)