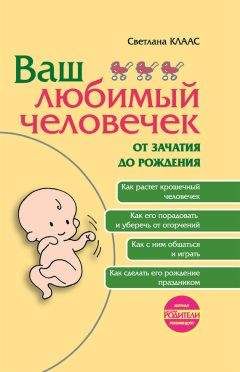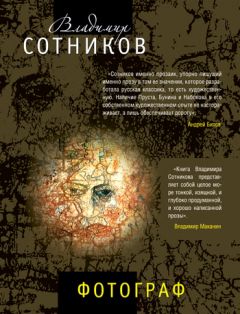Владимир Колин - Фотограф невидимого
- Нет! - прогремел внезапно чей-то голос (в котором он, к своему удивлению, узнал голос старика-отца), и он вдруг ощутил тяжесть своих ног и тела, а золотой аппарат потерял весь блеск и камнем потянул вниз руки, ставшие слабыми и бессильными.
Дон Модесто стремительно падал, кувыркаясь в воздухе, потрясенном звуками этого короткого слова, состоявшего из одной гласной и двух согласных. Ощутив страшную боль в затылке, он очнулся на Пласа майор, возле статуи Филиппа III, разлетевшейся на множество осколков, которые сыпались дождем, усеивая постамент бессмертного императора. И проснулся.
Проснулся на полу. Ибо он упал с кровати, и боль в затылке не проходила: падая, он ушибся о батарею отопления. В окно струился солнечный свет, отгоняя образы, еще витавшие под его закрытыми веками. Дон Модесто почувствовал неравномерные удары своего сердца и невольно ощупал себя, чтобы убедиться, что он цел. Боль в затылке и упорная горечь во рту преследовали его все время, пока он одевался. С непоправимым чувством тщеты он рассеянно чистил щеткой свой люстриновый пиджак и повязывал на шею черный бант галстука. Даже вид аппаратов, аккуратно расставленных на полках, не привел его в лучшее расположение духа и, открыв окно, он не заметил оживления на улице и не вдохнул аромата расцветших акаций. Но вдруг ощутил чесотку во всем теле, ему стало страшно жарко и, еще не понимая, что происходит, он почувствовал, что стоит на подоконнике. В это самое мгновение снизу донесся крик какой-то женщины, дон Модесто, увидел, что она указывает на него пальцем и понял, что это из-за него у входа в дом собралась толпа, которая все росла. Привратник кинулся на тротуар, таща полосатый матрас, а несколько мужчин ухватились за его края и, все время глядя вверх, расположили его на том месте, куда, по их соображениям, должен был упасть человек, которого они считали самоубийцей.
"Не беспокойтесь, я не брошусь", - захотелось ему крикнуть, но он с ужасом заметил, что наклоняется все сильнее...
Его подошвы уже едва касались подоконника, а тело склонилось над головокружительной бездной улицы.
Там, внизу, останавливались машины, люди выходили из трамваев, и толпа превратилась в море поднятых вверх лиц. Все кричали одновременно, все делали ему знаки, но он слышал лишь неразличимый гул. Он был еще не так напуган, чтобы не понять, что собственными силами не мог бы держаться в таком положении.
Ему даже показалось, что он чувствует какой-то предмет, теплый и мягкий, который старается схватить руками, но, как он ни тянулся, пальцам было не за что ухватиться. Невесомый предмет беспокоил его, и он попробовал закричать. Но его голос не смог покрыть голоса людей, толпящихся на улице. Тогда он закрыл глаза и застыл в ожидании.
Через какое-то время он услышал звук колокола, и гул толпы уступил место такой странной тишине, что он, стиснув зубы, снова взглянул в бездну. Машина пожарников остановилась перед зданием, и к его телу, висящему в воздухе под прямым углом к зданию, тянулась выдвижная лестница. Еще немного, и лестница коснулась бы подоконника. Он боялся повернуться и тем более - потянуться к краю лестницы. Ему казалось, что малейшее движение, противодействуя силе, которая удерживала его в опасном положении, столь пугавшем собравшихся внизу людей, могло нарушить хрупкое равновесие и сбросить его в бездну. Он издал робкий звук, услышанный на этот раз всеми людьми, с замиранием сердца следившими за ходом этого потрясающего циркового номера, бросившего вызов самым высоким достижениям профессионалов-эквилибристов. Пожарник начал бегом взбираться по лестнице.
Увидев его, дон Модесто вдруг почувствовал, что больше не может выносить своего странного положения, и взмолился в душе: "Быстрее, быстрее ..." Каска пожарника сверкала уже совсем близко. И в ту минуту, когда человек остановился прямо против него и протянул к нему руки-дон Модесто увидел даже его смуглое лицо, блестевшее от пота - в ту самую минуту он почувствовал, что движется, что подоконник уходит у него из-под ног... Ему самому невероятным показалось испытываемое им злобное удовлетворение: ведь он только что молил о спасении! Полный недоверия гул поднялся с улицы, и на молодом лице пожарника появилось выражение, которое сеньор Оргульо уже не успел определить. Потому что он парил в воздухе.
Парил в самом полном смысле этого слова - темное пятно в бесконечном голубом пространстве. Предмет или существо, которое его поддерживало, было совершенно невидимым, его нельзя было пощупать, и дон Модесто мог бы поклясться, что он освободился от силы притяжения и держался собственными силами на высоте своей квартиры на шестом этаже. Так же думали и люди собравшиеся внизу и следившие за медленным передвижением фотографа в воздухе. И снова, как во сне, от которого он только что пробудился, дон Модесто парил в вышине над пестрым ковром города.
Не привыкший анализировать свои чувства, он не сумел уловить борьбу, которую вели в его существе страх и странное спокойствие, все больше завоевывавшее поле боя. И не понял, что это спокойствие диктовалось уверенностью в том, что, раньше или позже, он непременно упадет к ногам величественной статуи Филиппа III. Слишком ошеломленный для того, чтобы отличить сон от действительности (причем следует признать, что полет, как некий вводящий в заблуждение общий знаменатель, усугублял эту путаницу), он принялся отыскивать взглядом толпу фотографов из бурлескной пантомимы сна и удивился, не обнаружив ее.
Лишь тут он попробовал наконец уяснить себе свое необычайное положение и убедился, что, как он и предполагал, звезда, которую он сфотографировал, поддерживает его в воздухе. Как бы странно это ни показалось, но она знала, что ее сфотографировали, и была в курсе безрезультатных усилий Эстеллы. Все еще спутанные, мысли дона Модесто не были, конечно, такими четкими, как в нашем описании, но интуиция (хотя обычно он ею не блистал) позволяла ему улавливать вещи, о которых он и не подозревал. А ход его мыслей и тот факт, что, чем дольше он летел, тем больше успокаивался, укреплял его веру в дружеские намерения силы, избравшей его дда того, чтобы обнаружить себя. Не могла же эта таинственная сила хотеть себя скомпрометировать, и совершенно ясно, что если уж она начала какое-то мероприятие, она знала заранее, что сможет довести его до конца.
Раскинувшись, как на огромном невидимом матрасе, на слоях воздуха, отделявших его от камней мостовой, дон Модесто плавно летел над кронами деревьев и антеннами крыш, и его спокойствие все более явно контрастировало с суетой, вызываемой его появлением повсюду, где он пролетал. Потоки машин остановились: люди следили за его полетом. Движение большого города было парализировано, и полицейские тщетно пытались направить прилив машин, не обращавших никакого внимания на огни светофоров. Можно было подумать, что тело фотографа превратилось в огромный магнит, с неудержимой силой притягивающий к себе внимание людей и тянущий их за собой в неизвестном направлении. И в то время, как город все больше охватывало изумление (дети вылетали из дверей школ в сопровождении учителей, конторы предприятий пустели, и улицы превращались в бурные потоки), человечек, летевший над комочками облаков, думал о том, что главный редактор "Иллюстрированной недели" наконец вынужден будет склониться перед неоспоримым и согласиться на публикацию фотографий, которые он презрел. Все происходящее имело слишком явный характер демонстрации, чтобы это могло ускользнуть даже от довольно слабой проницательности сеньора Оргульо. Невидимая звезда решилась доказать свое присутствие и заявляла о нем публично, в то же время привлекая внимание человечества к самому выдающемуся фотографу эпохи. Даже если ради признания его заслуг дону Модесто придется заплатить своей жизнью, разбившись в прах у ног самого неудачного из испанских императоров, даже тогда цена не окажется чрезмерной. Люди чтят память жертв, и сеньор Оргульо уже с грустным удовлетворением разглядывал свою посмертную статую ... Хотя в глубине души все сильнее сомневался в необходимости жертвы, в которой он больше не видел смысла.