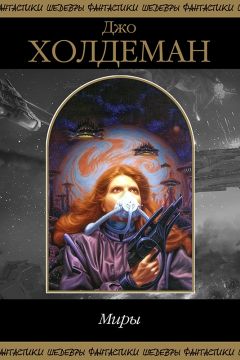Павел Амнуэль - Имя твоё...
– Пить надо меньше, – пробормотал я такую же дежурную фразу и налепил на виски Никиты датчики томоскопа. Если бы он не сказал того, что сказал через секунду, все пошло бы по накатанной колее, мне не пришлось бы выдирать из журнала лист, а представления мои о любви, душе и вообще о жизни так и остались бы на уровне простого советского обывателя.
Никита поморщился, когда холодная присоска защемила ему кожу над ухом, и сказал:
– Каждый раз такое впечатление, будто душу из меня отсасываете.
– Да? – сказал я равнодушно, не придавая пока этим словам никакого значения. – И что, много уже отсосали?
– Ох, много, – вздохнул Никита. – Я почти не помню о том, кем был в прошлой жизни.
– Не понял, – сказал я. – А что, раньше помнил?
– Конечно, – Никита говорил так, будто действительно был в этом уверен. – В прошлой жизни я был дружинником у князя Владимира. Я тебе скажу: это было ужасно. Я и вспоминать не хотел, а оно все перло. Как меня батогами… Ох… А я этого секирой по плечу, и кровищи… Ужасно боюсь крови, а когда сам… Нет, честно, хорошо, что эту гадость вы отсосали, теперь я только кое-что помню, самую малость.
Я сел перед Никитой на табурет и спросил:
– Ты это серьезно?
– Дурацкий вопрос, – обиделся Никита. – Я что, по-твоему, могу придумывать?
Придумать он действительно ничего не мог, фантазия у человека равнялась нулю, именно потому его и допустили к опытам: когда он описывал свои ощущения, можно было однозначно сказать, что он дает объективную информацию.
– И когда ты понял, что был дружинником?
– Когда… Хрен его знает. Давно.
– Еще до того, как начал работать в лаборатории?
– Нет, конечно, – удивился Никита. – Примерно через месяц. Когда эсвече начали давать… Нет, чуть позже. Когда второй диапазон пошел.
– Почему молчал? – с досадой сказал я. – Ты что, не понимаешь, как это важно?
– А чего я должен понимать? Ты спрашивал? У меня в договоре что написано? Пункт шестой: «Четко отвечать на вопросы исследователя, проводящего эксперимент». И Дмитрий Алексеевич всегда говорил: «Ты, Никита, со своими комментариями не лезь, никому это не интересно, говори то, о чем спрашивают». Я что – дурак, такую работу терять?
– Не дурак, – согласился я, мысленно обозвав Никиту всеми известными мне нецензурными словами.
Вот странно: я прекрасно помнил сейчас, много лет спустя, тот колючий, дерганный диалог, но совершенно забыл обо всем, что думал сам. Скорее всего, я ни о чем и не думал – включилась интуиция, то, о чем мечтает любой исследователь: ломаешь голову без толку, и вдруг – вспышка, толчок, и ты уже знаешь решение, хотя, как собака, не в состоянии объяснить, просто понимаешь, что сделать нужно так и так, а почему – потом разберемся. Это физика: если известна цель, если ты ее уже достиг, то провести до нее путь, полный надежд, – дело теоретика, и интуиция у него своя, вот пусть и мучается.
– Знаешь что, – медленно произнес я, стараясь не упустить мысль, – сегодня мы не будем заниматься эсвече. Ночь у тебя была не очень, результат потом пересчитывать… Попробую выбить пару тараканов. Ты только не дергайся, если будет колоть.
"Выбивать тараканов» – термин не научный, но пользовались мы им повсеместно, кроме, конечно, отчетов. Возник термин еще до моего появления в лаборатории, и я точно не знал, что стало тому причиной. На тараканов излучаемые мозгом волновые пакеты были так же мало похожи, как Никита Росин – на русского интеллигента, каким он, по идее, должен был считаться. Прадед его был известным в городе врачом, дед – юристом, он погиб в конце тридцатых, год смерти так и остался неизвестным, а отец, школьный учитель, замечательный человек, которого уважали даже откровенные враги, умер недавно от страшной болезни, буквально в несколько месяцев съевшей его мозг. Говорили (это были, конечно, слухи, но ходили они очень упорно и, вероятно, имели какое-то отношение к действительности), что, когда Олег Михайлович умер и было произведено вскрытие, патологоанатом пришел в полное недоумение: место под черепной коробкой занимала опухоль, похожая по форме на небывалый цветок с двенадцатью лепестками.
Никита, видимо, унаследовал гены матери – женщины достаточно примитивного склада ума, взбалмошной и поедом евшей своего тихого и безответного супруга. Лаборатория мозга оказалась для него последним пристанищем – он потерял работу в котельной, откуда его уволили за пренебрежение обязанностями: он мог, например, оставить котел без присмотра и отправиться с приятелями на рыбалку, поскольку был большим любителем подледного лова.
– А без тараканов нельзя? – капризно сказал Никита, когда я менял уже прилепленные датчики. Для снятия волновых пакетов использовалась другая система.
– Нельзя, – отрезал я. Чтобы мозг излучил в пространство волновой пакет в нужном для исследователя диапазоне, в лаборатории применяли довольно варварские методы возбуждения: кололи, например, за ухом длинной иглой, чтобы попасть в определенную точку, расположенную под черепной коробкой на глубине полутора сантиметров. Результаты получались интересные, но трудно поддававшиеся расшифровке. Структура пакета и его содержание представляли собой записанную эмоцию или мысль – так предполагали теоретики, но доказать это удалось пока лишь для очень ограниченного числа записанных структур. Больше всего расшифровок приходилось, между прочим, на долю излучений именно Никиты Росина – должно быть, в силу примитивности его мыслей.
Сейчас, много лет спустя, я уже не помнил, почему рассказ Никиты о его якобы пробужденной инкарнации заставил меня перейти к записи волнового пакета. Не собирался же я на самом деле выяснять, насколько правдивы были его слова! Волновой пакет – «таракан», как мы его называли, – мог содержать любую эмоцию и обрывок мысли, а расшифровкой его структуры все равно занимался не я, мне таких сложных задач не поручали. Кстати, не только тогда, но и впоследствии.
Должно быть, я решил, что есть смысл «выколотить таракана», чтобы проверить реакцию возбужденного мозга на вопросы о воспоминаниях, рассказанных Никитой. А может, мысль моя была иной – не помню. Как бы то ни было, я провел блокаду, усилил напряжение, вывел аппаратуру в рабочий режим, стерилизовал иглу – в общем, завершил стандартную процедуру и сделал укол.
Обычная реакция реципиента – расширение зрачков, будто волновой пакет распространяется через глаза, и конвульсивные подергивания пальцев, продолжающиеся две-три секунды. Организм возвращался к норме очень быстро, энцефалограмма не показывала никакого последействия, а на осциллограмме оставались столь сложные кривые, что понять этот всплеск мозгового излучения удавалось лишь на несколько процентов, которые затем и становились содержанием отчетов.