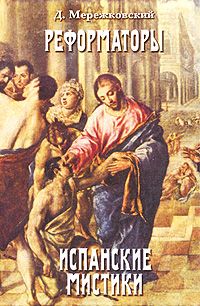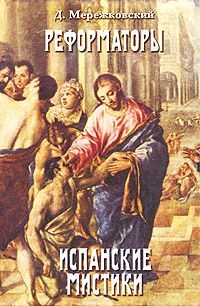Дмитрий Емец - Две старухи
Когда часы у Никитичны ломались, она говорила об этом просто: "Иваныч, у меня время сломалось."
* * *
В этом заведомо бессюжетном рассказе мне важно было показать некую таинственную доминанту человеческого существования. Вот жил человек, смеялся, страдал, зачем-то покупал часы, зачем-то заводил знакомства, вел туманные, непонятные разговоры - и вот он канул, сгинул. Зачем, куда? Должна же быть какая-то конечная цель всего этого, иначе всё: и жизнь, и смерть были бы слишком бессмысленными и жестокими. И еще вероятно, что если эта цель, это глобальное оправдание нашему существованию все же есть, то кроется она не здесь, среди нас, а где-то на сценой, за кулисами этой жизни, в вечности. Доминанта существования, доминанта вечности существует в жизни у каждого, и у безвестной Марьи Никитичны Николаевой с точки зрения неведомого она ничуть не менее важна и значительна, чем в жизни Цезаря, Наполеона или Льва Толстого.
У Ирины Олеговны Симахович такая доминанта тоже, вероятно, есть. И доминанта эта очевидна. В ней природа ли, Бог ли или иная неведомая загробная сила испытывали безграничные возможности человеческого актерства.
* * *
Теперь наступил ее черед. Черед Ирины Олеговны Симахович, женщины в своем роде не менее яркой и примечательной, чем Марья Никитична Николаева.
В своем роде Ирина Олеговна была антиподом Никитичны, антиподом как внешним, так и глубинным.
Никитична была склонной к полноте, костистой и сильной. Ее ладони смахивали на ковши, а широкое запястье невозможно было охватить указательным и большим пальцами.
Симахович была маленькой, юркой, очень подвижной, но почему-то, вопреки своей внешней подвижности, очень ленивой на ходьбу и вообще на передвижение. Она объясняла это своим страхом перед бандитизмом. На самом же деле, речь здесь по-моему шла об отсутствии любопытства к окружающему миру. Отсутствие интереса к миру - клинический диагноз.
Никитична была стрекоза. Даже отношение к жизни у нее было особое, стрекозье - созерцательно-легкомысленное. Созерцала она вещи, на которые другой и внимание не обратит. Например, она могла долго разглядывать на асфальте какого-нибудь спешащего жука, бормоча с восхищением: "Ишь ты, собака!" Легкомысленно же относилась она к вещам, к которым другие относятся серьезно. Например, продолжению рода или к собственности. Почему-то это казалось ей неважным. Даже когда ее явно обсчитали с оформлением пенсии, недозачтя ей десять лет стажа, Никитична даже выяснять ничего не стала.
Ее отношение к жизни лучше всего определялось словами: "авось как-нибудь".
Если Никитична была стрекоза, то Ирина была муравей. Она всегда была озабочена, раздражена и занята. Она не созерцала, а пребывала в вечном действии. Всегда что-то стирала, зашивала, убирала и перетаскивала вещи из одной части квартиры в другую. Однако, когда она заболела, в ее квартире стал такой же бедлам, как и у Никитичны. А если так, то ради чего было стараться?
Никитична была некогда страстна и многих любила.
Ирина не любила даже мужа. Вернее, не то, чтобы не любила - она вообще не позволяла себе расслабиться, чтобы кого-то любить. Любовь как известно требует времени и душевных сил. Симахович же расходовала их на другое.
У Никитичны детей не было. У Ирины был сын. Это он первым назвал мать "громокипящей".
Никитична до старости любила хлебнуть пивка. Не отказывалась, когда угощали, и от рюмочки. Ирина Олеговна употребляла только "Бальзам Биттнер" по одной чайной ложке два раза в день. После бальзама у нее всякий раз краснел и румянился носик.
Никитична порой под настроение плакала, громко, в голос. Ирина никогда не плакала, но язвила и исходила желчью. И говорила: "Ах, не трогайте меня! У меня жуткая дэпрэссия".
Никитична ничего не понимала в политике и социальном устройстве. Ее мышление было слишком конкретным для таких абстрактных вещей. Ирина, напротив, была очень политизирована. Все программы "Новостей" она смотрела от корки до корки: от тикающих часов в начале и до прогноза погоды в конце. Ей казалось, что она держит руку на пульсе истории. Как и многие тогда, она была увлечена катаклизмами воображаемой демократии. В коридоре, у дверей, у нее висел портрет Бурбулиса, вырезанный из журнала "Огонек". Когда она умерла, сын заклеил этот портрет обоями.
Никитична считала почти всех без исключения людей умнее себя. Не вспомню случая, когда она кого-то осуждала. Если что-то происходило, она терпеливо говорила: "Знать так надо!"
"Громокипящая" Ирина в своих суждениях была категорична. "Под суд его, мерзавца! Я бы его сразу к стенке поставила!" - восклицала она. И ее негодование было искренним. В такие минуты с ее лица даже стиралось обычное страдальческое выражение.
Но будет ошибочно представлять себе образ Ирины таким уж несимпатичным. Это были ее черты, ее достоинства и недостатки - и в них-то, в своих сильных и слабых сторонах - она была вполне искренна. Каждый человек в своем роде ноумен. Вещь в себе. И как всякая вещь в себе он уникален и неподсуден.
Сочетание самых разных черт и качеств в человеке - подлости и отваги, великодушия и мелочности - порой может быть уникальным. Сложно даже поверить, как эти черты, такие разные, могут обитать и уживаться в одной и той же личности. Но могут. Обитают и уживаются.
В такие минуты веришь, что у человека, кроме вздувшегося, нездорового, запутавшегося в противоречиях мозга, есть еще душа, в которой живет частица Бога.
Так, несимпатичная Ирина порой была способна даже на гражданскую отвагу. Так в девяносто первом году, в дни путча, она две ночи подряд ночевала у Белого Дома, уверенная, что своим телом преграждает дорогу танкам и защищает демократию. Учитывая ее обычную мнительность и глобальный пессимизм, можно увериться, что старушка сознательно шла на смерть. То есть была почти стопроцентно уверена, что танк через нее переедет.
И это делала та же самая Ирина, которая, дважды в день измеряла себе давление и приходила в ужас от всякого случайного чиха.
Начиная с шестидесяти пяти лет, дважды в год она обязательно устаивала душераздирающие сцены своего умирания, собирая у своего "смертного" одра всех родных. Сцены эти, вызванные обычно легкими сердечными недомоганиями или аритмией, были с ее стороны очень искренними и сопровождались назидательными надгробными речами, произносимыми стонущим голосом. Старушка, обычно таинственно бледная, с запавшими больше от воображения глазами, лежала в кровати, укрытая по грудь одеялом и произносила сентенции, перемежая их горькими укорами.
Поэтому, когда она по-настоящему заболела, никто из родственников не поверил в ее болезнь. Впрочем, по большому счету они ничего не пропустили. Все предсмертные напутствия им уже были произнесены заранее.