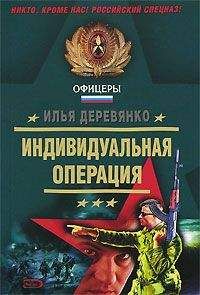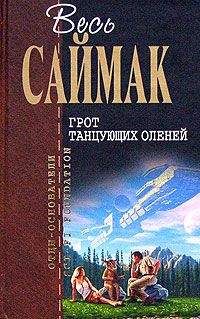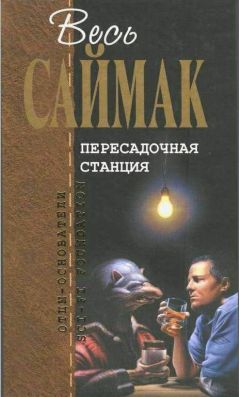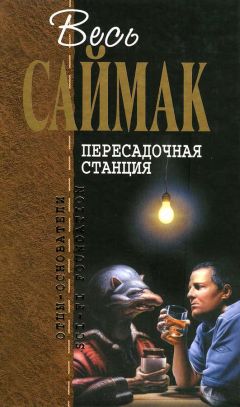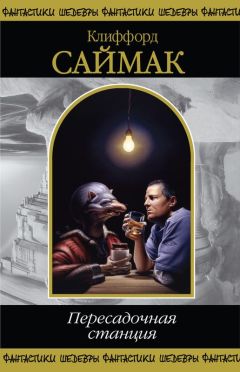Клиффорд Саймак - Дом на берегу
– По-вашему, выбирают только людей без крепких привязанностей?
– Сомневаюсь, что это принимается во внимание. Скорее среди людей нашего круга просто нет таких, кто склонен к крепким привязанностям.
– Тогда расскажите мне подробнее о наших компаньонах. Вы упомянули, что занимаетесь философией. Я узнал кое-что и о некоторых других. А кто такой Андервуд?
– Драматург. И надо сказать, до того как он попал сюда, его пьесы пользовались довольно большим успехом.
– А Чарли и Джейн?
– Чарли – карикатурист, Джейн – очеркист.
– Очеркист?
– Да. Специализировалась на темах, связанных с общественным самосознанием. Писала духоподъемные статьи для так называемых элитарных журналов. Чарли был известен на Среднем Западе. Работал в небольшой ежедневной газете, однако его карикатуры перепечатывали чуть не по всей стране. У него было уже довольно прочное имя, и, может статься, он сменил бы жанр и перешел к более значительным работам.
– Значит, мы не все из этой части страны? Не все из Новой Англии?
– Нет, не все. Только двое – вы да я.
– Но всех нас можно отнести, с большей или меньшей натяжкой, к людям искусства. Притом мы были разбросаны по стране. Какими же ухищрениями они заманили нас одного за другим в этот дом? Ведь, насколько я понимаю, все мы явились сюда добровольно; никого не похищали и не привозили сюда насильно?
– По-видимому, вы правы. Но как этого удалось добиться, понятия не имею. Предположительно какой-то психологический трюк, но что за трюк и как он осуществляется, не могу себе представить.
– Вы назвали себя философом. Вы что, преподавали философию?
– В свое время, да. Только не получал от этого никакого удовлетворения. Вдалбливать давние мертвые догмы юнцам, которые тебя и не слушают толком, это, доложу я вам, работенка не из приятных. Хотя их-то, наверное, не стоит винить. Философия в наши дни вообще мертва. Большая ее часть больна упрощенчеством и, мягко говоря, отстала от жизни. Нам нужна новая философия, которая помогала бы нам жить в согласии с нынешним миром.
– И вы создаете именно такую философию?
– Пишу кое-что с нею связанное. Но, признаться, с каждым прожитым здесь годом делаю все меньше и меньше. Не вижу стимула. Вероятно, всему виной здешняя покойная жизнь. Что-то во мне утратилось. То ли гнев испарился, то ли пропал контакт с миром, каким я его знал. Меня избавили от соприкосновения с повседневностью, я потерял с нею связь. Во мне теперь нет потребности протестовать, нет ощущения поруганного достоинства, и необходимость новой философии стала чисто теоретической.
– Вернемся к вопросу о прислуге. Вы сказали, что время от времени она меняется. А снабжение? Доставляются же откуда-то припасы!
– Наверное, стоило бы заглянуть в подвал? А что если там туннели? Может, прислуга да и припасы прибывают через тайные ходы? Конечно, идея как из шпионского романа, а все же… Что ж, может быть, может быть. Но если так, мы ничего никогда не установим. Да, припасы хранятся в подвале, но нас туда не пускают. Подвалом заправляет дюжий детина, к тому же он глухонемой или притворяется таковым. Он оттуда не вылезает, ест там и спит.
– Выходит, в моем предположении нет ничего невозможного?
– Выходит, так, – отозвался Джонатон.
Огонь в камине угас, только несколько угольков еще теплилось под слоем золы. В тишине, спустившейся на гостиную, Лэтимер улавливал подвывание ветра.
– Об одном вы еще не знаете, – произнес Джонатон, – на берегу водятся большие бескрылые гагарки.
– Бескрылые гагарки? Не может быть! Их же…
– Да, разумеется. Их истребили более ста лет назад. А в океане киты. В иные дни замечаешь по доброму десятку китов. Бывает, что увидишь и белого медведя.
– Тогда, значит…
– Значит, – кивнул Джонатон, – мы где-то в доисторической Северной Америке. По моей оценке, примерно за три-четыре тысячелетия до наших дней. В лесу можно услышать, а то и увидеть лосей. Полным-полно оленей, попадаются даже лесные карибу. А уж птиц видимо-невидимо. Если вам придет такая фантазия, можно отлично поохотиться. Ружья и патроны у нас есть…
Когда Лэтимер поднялся вновь к себе в комнату, уже занимался рассвет. Он устал до изнеможения и понимал, что теперь способен заснуть. Но все равно, прежде чем лечь, постоял у окна, выходившего на березовую рощу и берег. Над водой поднимался слабый туман, и все вокруг приобрело нереальный, волшебный вид.
Доисторическая Северная Америка – так считает философ, и, если он прав, шансов вырваться отсюда в знакомый мир очень и очень мало. Для этого надо узнать секрет – или овладеть технологией – перемещения во времени. Кто же, хотелось бы понять, мог расколоть эту тайну, создать технологию? И кто, создав нужную технологию, мог использовать ее для нелепой цели заточать людей во времени?
В Массачусетсском технологическом, припомнил Лэтимер, был чудак, потративший лет двадцать, если не больше, на то, чтобы найти точное определение времени и хотя бы приблизиться к пониманию, что это такое. Но то было давно, а потом чудак пропал из виду или, по меньшей мере, с газетных страниц. В свое время о нем писали, как правило, с нескрываемой иронией, потом перестали. Впрочем, поправил себя Лэтимер, чудак из Массачусетсской «техноложки» тут, может, вовсе ни при чем – могли быть и другие ученые, исследовавшие ту же проблему, но, к счастью для себя, избегшие внимания прессы.
Довольно было задуматься на эту тему, и Лэтимер ощутил волнение: он увидит Америку первобытной поры, увидит континент задолго до белых первооткрывателей, до викингов, Каботов, Картье и всех прочих!
Не отдавая себе в том отчета, Лэтимер уставился на маленькую группу берез. Две из них росли чуть позади крупного, футов пять в высоту, валуна по разные его стороны. Третья береза выбрала себе место тоже позади валуна, но немного выше по склону и как бы на равном расстоянии от двух других. Казалось бы, ничего особенного: березы часто собираются купами. И все же в этой группе было, видимо, что-то странное. Но что? Лэтимер не отводил взгляда от деревьев, недоумевая, что же такое он подметил, и подметил ли что-нибудь вообще.
На его глазах на валун опустилась птичка. Птичка была певчая, но какая именно, не разобрать: далеко. Он лениво наблюдал за птахой, пока та не вспорхнула и не улетела.
Не удосужившись раздеться, лишь сбросив с ног ботинки, Лэтимер пересек комнату, повалился на кровать и забылся едва ли не раньше, чем голова коснулась подушки.
Когда он проснулся, был почти полдень. Умылся, причесался, с бритьем возиться не стал и, слегка пошатываясь, спустился вниз: стряхнуть с себя дурман чрезмерно крепкого сна было не так-то просто. В доме никого не оказалось, но в столовой был оставлен один прибор, а на буфете – завтрак, накрытый салфетками. Он выбрал себе почки и омлет, нацедил чашку кофе и перешел к столу. Запах пищи разбудил волчий аппетит, он съел все до крошки, сходил за добавкой и уж, конечно, за второй чашкой кофе.