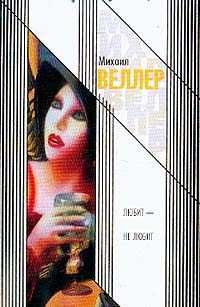Михаил Анчаров - Сода-Солнце
Тургайская область занимала часть киргизских степей, населенных кочевыми киргизами. Это была волнистая равнина с разбросанными по ней солеными и пресными озерами, заросшими камышом. Я снарядил караван, нанял киргизов, чтобы вести раскопки, и отправился в путь. И вот по дороге они сообщили мне, что в другом месте, на берегу Соленого озера, есть скопления костей гораздо более крупных, чем на Джиланчике. Они это место называли Битвой гигантов.
Не надо большого воображения, чтобы представить себе, что я почувствовал, когда услышал о битве великанов. Это была та смесь испепеляющего азарта и почти суеверного отчаяния при мысли, что рассказ может не подтвердиться, которая открывает человеку глаза на свои истинные желания, на самого себя, на свое призвание, которую мы зовем прозрением. Забыты были и Горный институт, и распоряжение начальства, и само начальство.
Я немедленно повернул экспедицию в сторону Соленого озера. А ведь я считался спокойным человеком, выше всего ставил невозмутимость и занимался гимнастикой по системе Миллера и лаун-теннисом. Это было, конечно, большим проступком, но я не мог устоять перед желанием подобрать кости мамонтов.
Я подобрал их. Я вернулся. Меня постигло жестокое разочарование.
Меня посылали для сбора неизвестной фауны, а я вместо нее привез давно и хорошо всем известного мамонта. Пришли ящики. И хотя мамонт не представлял особого интереса, все же раскрыли один из самых длинных ящиков, сняли крышку, и с первых же шагов обнаружились такие признаки кости, которые позволили с уверенностью сказать, что это не мамонт. Что же это? Это было какое-то совершенно новое, неизвестное гигантское животное. Разочарование сменилось острым интересом, который удесятерил внимание и осторожность препараторов.
Высящийся ныне в Историческом музее колоссальный скелет индрикатерия — 5 метров высоты — навсегда останется для меня памятником первого успеха.
И вот теперь мы едем в экспедицию без этого клоуна, несмотря на то, что едем из-за него.
9. БЕЗ ТАБЛЕТОК
Его выгнали прежде всего потому, что от него все устали.
Началось с того, что я спросил:
— А почему вы, собственно, заинтересовались Митусой и Леонардо?
Это было неосторожно.
— Митусой я заинтересовался потому, что я не знаю иностранных языков, — сказал он.
— При чем тут иностранные языки?
— Начало нашего тысячелетия ознаменовано необычайными поэмами, — сказал он. — В Германии «Песнь о Нибелунгах», в Испании «Романсеро о Сиде Кампеадоре», в Англии — «Баллады о Робин Гуде», во Франции — «Песнь о Роланде», в России — «Слово о полку Игореве». Славянский мне было изучить легче, чем другие языки.
— Ну и что?
— Такое впечатление, что все силы творчества в начале тысячелетия ушли в поэзию. Причем безымянную.
— Допустим. Ну и что из этого?
— А то, что эпоха Возрождения, середина тысячелетия, должна была оказаться сильной в творчестве с рационалистическим оттенком. Так оно и было. Литература философствовала, драма стала публицистичной, изобразительные искусства смыкались с наукой.
— Ну, это известно. А что дальше?
— А то, что если взять человечество как общество, а не сумму людей, как организм, — то первые два этажа уж очень похожи на первые два этапа теории отражения, то есть на живое восприятие и на абстрактное мышление, и следующий конец тысячелетия должен ознаменоваться практикой в области творчества. А что это значит?
— Вот именно, что это значит? — сказал я. — Загибщик вы. Творчество и есть практика. Какая еще может быть «практика в области творчества»? И в начале тысячелетия творили, и в середине, и сейчас творят.
— А что сейчас творят? — спросил он. — Где уникальные произведения культуры, где великие творения, где синтез? Все анализ, исследования, открытия, теории, долбежка частиц, разброд, развал, поиски истины. Разбирают вселенную, как часики, потом собирают обратно — остаются лишние детали. Разве это творчество?
— Истину всегда искали — и нравственную и научную.
— Факт. Но для чего? Почему так много исследований и открытий и так мало изобретений?
— Это сейчас-то мало? Да их полно. Только и слышишь…
— Вот именно слышишь! А их должно быть столько, чтобы о них не было слышно. Вы же не слышите о том, что еще выпустили пару туфель или автомобиль. О них не сообщают, их делают. Нет, наше время не любит изобретений. Оно любит исследования. Кому трудней всего? Изобретателю. А исследователю? Все институты научно-исследовательские. Разве не так? А почему? Исследование — это значит исследование того, что природа изобрела. А изобретение — это человеческое создание, продукт творчества, синтез.
— Без исследований не будет изобретений.
— Правильно. А без изобретений вообще ничего не будет. Жизни не будет. Человек от обезьяны отличается не исследованием дубины, а изобретением дубины. А сейчас изобретателя, по сути дела, боятся. Потому что он дезорганизует производство. А уже давно пора производить не просто предметы, а изобретения. Производство должно производить изобретения. Тогда никакой дезорганизации не будет. Будут планировать изобретения — и все.
— А где их напасешься? Изобретение — это не туфли, не автомобиль, — сказал я.
— Вот именно. А почему? Потому что никто не знает, что такое творчество, с чем его едят и как его вызывать, — сказал он и добавил как-то нехотя: — А вот Леонардо знал.
— А откуда вам это известно?
— По результатам. Один список его изобретений занимает десятки страниц. Не прочтешь. Устанешь, — сказал он устало.
— Леонардо — гений, — торжествующе сказал я.
— Гений! — почти крикнул он. — А не кажется ли вам, что у него способ мышления был другой, не такой, как у нас? Не кажется ли вам, что гений — это тот, кто нащупал другой способ мышления? А остальные так… Логикой орудуют.
— Ну, знаете!
— Что «ну знаете»? Что такое логика? Инструмент. А инструменты стареют. Вас же не пугает, что евклидова геометрия устарела?
— Ею пользуются.
— Правильно. Для частных задач. Для плоскости. А любая плоскость — часть шара. А на нем сумма углов треугольника никогда не равняется двум «д». Молотком тоже пользуются, но есть орудия и поновее.
— А чем вы замените логику?
— Если наш мозг может иногда делать внезапные открытия, значит он может это делать постоянно. Если Менделеев увидел свою таблицу во сне, значит именно в тот момент ему легко было сделать это, значит его мозг правильно думал.
— Какая чушь! — Я рассвирепел окончательно. — Прежде чем ему приснилась таблица, он годами мучился, обдумывая ее!