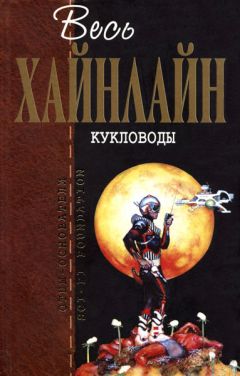Blackfighter - Рассказы
Возможно, это маленькое по сравнению с иными событие стало все же последней каплей, переполнившей чашу терпения Судьбы, которая давно с удивлением взирала на происходившее между двумя людьми этого мира, но пока что избегала вмешиваться, оставляя героям быть самими собой — одному жестоким игроком, искренне верившим в принцип меньшего зла, другому одновременно невинной жертвой и главным виновником того, что игра вообще началась. И, должно быть, Судьба решила вмешаться и подтолкнуть события так, чтобы восстановить справедливость, которое она понимала, как равновесие в количестве добра и зла, горя и радости, боли и удовольствия, которые должен был испытать в своей жизни каждый человек. До сих пор оба героя ухитрялись брать от жизни преимущественно радость и удовольствие; правда, в последнее время одному доставалось изрядное количество и горя, и боли, но он еще не успел сравнять соотношение черного и белого в своей жизни. Но, подталкивая их друг к другу, Судьба решила, что после этого они без всякого ее вмешательства смогут помочь друг другу соблюсти этот баланс — ибо, как было ясно даже Судьбе, не очень-то понимавшей все перипетии жизни этих странных и суетливых вечно недовольных смертных, оба влюбленных обладали достаточными силами, страстью и энергией для того, чтобы устроить друг другу рай и ад на земле; преимущественно ад, как, пряча усмешку, думала Судьба, но именно через муки ада обоим суждено было познать блаженство рая, ибо оба были созданы не для мирного сладкого покоя, но для бешеных страстей, изматывающих сцен и трагедийной великолепности сценического действия.
Как бы то ни было, в тишине парка раздался, словно эхо стука копыт гнедой кобылы Эбисса, другой звук, другая мерная дробь конского шага. Юноша поднял голову, при этом внезапно ощутив предательскую влагу на щеках и поспешно отирая ее рукавом — и вздрогнул всем телом, так, что эта дрожь даже передалась кобыле и та коротко, но тревожно заржала. Навстречу ему ехал тот, о ком он думал в последние часы… точнее говоря тот, о ком в последние месяцы он думал неотступно каждый день и каждый час, Ролан, герой его любовных грез и болезненный шрам на его самолюбии, средоточие его нынешней вселенной и вечный упрек в бессилии его внешней привлекательности. Встреча была случайной — может быть, второй в их жизни случайной, а не подстроенной вечно напрасным коварством Эбисса — и потому особенно волнующей именно своей неожиданностью. Было в этом для юноши даже что-то мистическое, обещавшее какие-то неведомые и непридуманные пока еще возможности, шансы, вероятности; случайность этой встречи не могла быть случайностью, она непременно наделена была каким-то высшим смыслом, просто обязана была стать судьбоносной и решающей… что решающей, как решающей — он не знал и даже не пытался загадывать, уверенный в том, что даже крошечный элемент расчета или волеизъявления может в очередной раз оказаться гибельным. Нужно было положиться на случай, который уже преподнес ему такой потрясающий подарок, на мудрость и доброту этого случая, отдаться течению и плыть по нему, не думая о том, куда несет поток.
Идея эта настолько захватила Эбисса, что он даже не стал брать в руку поводья или приподнимать шляпу в приветствии; он просто продолжал ехать, как ехал, почти что даже и не ожидая развития событий, почти не глядя на своего кумира. Странное почти что оцепенение овладело им; но в отличие от оцепенения, которое вызывал страх или сильная физическая боль, это было мягким и почти сладким, напоминавшим наркотический дремотный сон. В области солнечного сплетения разливалось тягучее тепло, делая мышцы мягкими, а ход мыслей неестественно ровным; ощущение блаженного покоя и подконтрольности, подвластности всего происходящего в мире его воле захлестнуло его. И когда он спокойно и ласково поднял умиротворенный летне-голубой взгляд на Ролана, то прочел на его лице что-то давно знакомое и почти что привычное, но никоим образом не ассоциировавшееся у него с этими чертами лица, с этим человеком. Он даже не сразу понял, что это — довольно откровенно показанное, совершенно уверенное в своей правомочности и ничем не прикрытое желание; понадобилось еще несколько минут, чтобы понять, что объектом этого желания является сам он.
Иногда, особенно в детстве, с Эбиссом случалось странное — он мог долго и ярко представлять себе какое-нибудь событие, какой-нибудь праздник или подарок или чей-то визит, мечты о нем были радостны и сердце остро замирало в предвкушении, но когда вожделенное событие происходило на самом деле — он пугался и молниеносно отступал, прятался или отказывался от подарка; иногда он даже заболевал — словно бы испуг от воплощения мечты в жизнь был настолько велик и реален, что прорывался температурой или болями в животе. Сейчас ему почти уже показалось, что так и случится, что сейчас он пришпорит коня и унесется прочь, не в силах вынести тяжкий груз воплотившейся мечты, но ощущение потока случая было еще велико в нем, и он просто улыбнулся — не так, как улыбался на людях, холодно и надменно, но почти по-детски, тепло и открыто, немного застенчиво и как-то удивительно светло. Он сам почувствовал этот свет, что был в уголках губ и приподнятых в улыбке щеках, в мягком движении длинных ресниц, слегка намокших в тумане и недавних слезах, и оттого особенно тяжелых, выразительных, пленительных; почувствовал мягкую открытость в очертаниях нижней губы — и сам удивился, так он, казалось ему, еще не улыбался в этой жизни никогда. Только те, кому доводилось когда-либо проснуться рядом с ним, пока он еще спал, могли бы подтвердить, что эта улыбка была свойственна ему — но только в самой середине ночи, в особенно сладкий миг сна. Впрочем, все происходящее все более и более казалось ему сном — только во сне могла быть такая застывшая тишина, такое прозрачное утро, такая вереница давно желанных событий и осуществления самых несбыточных мечтаний.
И с легкостью сна, с воздушностью ни к чему не обязывающей предрассветной эротической грезы, которая дарит невесомое ощущение блаженства и тихонько тает с первыми лучами солнца, покатились события, освещенные солнцем, каким оно бывает только в середине осени и только в период между восходом и полуднем, в час смерти туманов и успокоения вороньих стай. Прикосновение взглядов и открытость протянутых друг к другу рук, взаимное обретение губ, отзывающееся для обоих памятью о бывшем когда-то, на изломе весны, и первое, а потому незабываемое, но совершенно непригодное к воспоминанию, словно взгляд на солнце, прикосновение тел — пусть разделенных слоями осенних одежд, пусть почти мимолетное, но такое нужное и важное после всех дней отдельного друг от друга существования, теперь казавшегося совершенно невозможным. Они целовались, стоя под кленом, с которого, не переставая ни на минуту, сыпались яркие мокрые листья, растворяясь друг в друге до такой степени, которая была незнакома доселе обоим — одному, познавшему сотни различных объятий и губ, но не узнавшему в них истинной страсти, другому, изведавшему намного меньше, но каждый раз до безумства и самозабвения влюблявшемуся… Но то, что происходило сейчас, было больше и выше того, что случалось с каждым доселе — и отточенней были прикосновения, и ослепительнее страсть. И они тонули друг в друге без сожаления, словно не зная, что таких моментов Судьба заготовила им еще очень и очень много.