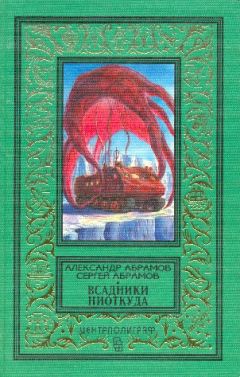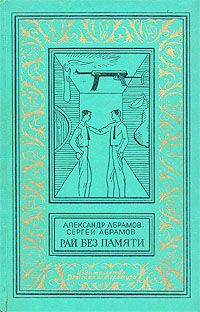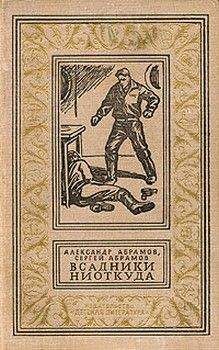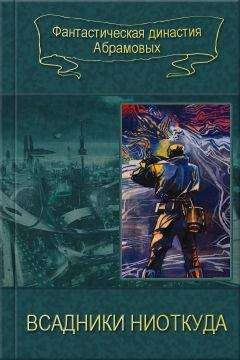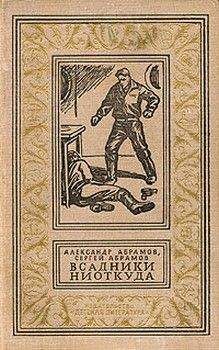Александр Абрамов - Серебрянный вариант
Сам же Мерль сияет сверхновой на математическом небосклоне. В школах его имя пишут вслед за Галуа, Лобачевским, Эйнштейном и Винером. Более крупных открытий на моем веку, вероятно, уже никто не сделает.
Познакомился я с ним четверть века назад, в начале семидесятых годов, в новосибирской аспирантуре. Мой реферат на тему «Математическая модель процессов первичного запоминания» вызвал резкие замечания моего консультанта, профессора Давиденко.
— Незрело и надуманно. Цирковой жонгляж, а не математика. Проситесь в группу Мерля, юноша. Он такие кунштюки любит.
У Мерля тогда, несмотря на его уже довольно крупное имя в науке, было немало противников, да и научная репутация его носила несколько сенсационный характер. Учеников он не искал, они сами его находили. Ему же оставалось только выбирать, безжалостно и безоговорочно отбрасывая неугодных. Слыл он человеком заносчивым, нелюдимым. Но все же я рискнул, поймав его в коридоре, протянуть ему свою тетрадку, что-то при этом бессвязно пролепетав. Не возражая, он тут же, примостившись на подоконнике, перелистал ее, потом снова открыл на злополучной формуле, выведенной мною с апломбом и вызвавшей особенный гнев консультанта. Мерль подсчитывал что-то в уме и улыбался. А у меня покраснели даже уши.
— Прогнал Давиденко? Незрело и надуманно, — слово в слово повторил Мерль оценку моего консультанта, но повторил с усмешечкой, не без издевки. — А в этой формуле, хотя и ошибочной, есть что-то вроде эмбриона будущей диссертации. Ищите свой путь в науке, аспирант, — это главное. И не бойтесь ошибок. Чаще всего они подсказывают правильное решение задачи.
Он вернул мне тетрадку и ушел, ничего не добавив. А через час меня разыскал староста его группы и сообщил, что я зачислен. Наверное, Мерль либо знал, либо узнал мое имя, хотя я и забыл представиться.
— Смотри не пожалей, — предупредил староста, — у нас не группа, а монастырь.
Меткое было сравнение. В этом монастыре, где математика была богом, а Мерль — игуменом, служили денно и нощно. Без выходных дней и обеденных перерывов. Здесь ни о чем не говорили, кроме предмета занятий, да и самый термин «занятие» едва ли определял смысл происходившего. Скорее, библейское сказание об отроках, горевших и не сгоравших в пещи огненной. А поджаривал нас Мерль с яростью инквизитора, забывая о человеческих слабостях, когда, скажем, рассматривались аксиоматические уравнения в квантовой теории поля или принципы распространения электромагнитных волн в ограниченных и замедляющих структурах.
Не многие выдерживали это. Я выдержал. Все два года, вплоть до скоропостижной кончины Мерля.
— Любимый ученик, — пожимая плечами, говорили одни.
Другие, удивляясь, спрашивали:
— Как это у тебя сил хватает?
— А Мерль их откуда берет?
— Ты вникни, что это за фрукт. Что ест? Силос. Сам видел в столовой: ни рыбы, ни мяса. Даже икру на банкете не ел. Спросим официально: что же обуславливает его специфически повышенную сопротивляемость? Ответ: женьшень. Есть слух — настойка у него дома на сто лет заготовлена.
Я не улыбался.
— Трепачи. Никакой женьшень не снимает перегрузок.
— У него особый. Самого широкого профиля. Адаптоген с гималайских вершин.
— Почему с гималайских?
— Ты когда-нибудь интересовался, где первого снежного человека видели? Под Джомолунгмой. Вот оттуда, говорят, его ребенком и вывезли. Не то альпинисты, не то геологи. С виду человек, а босой по снегу пройдет — ты на след посмотри: большой палец в полстопы, а «колеса», между прочим, сорок шестого размера.
Номер обуви у Мерля был сорок первый, как и у меня. Большой палец тоже нормальный — вместе в бассейне плавали, но прозвище «Снежный человек» следовало за ним неотступно, как тень, и придумавшему его нельзя было отказать в наблюдательности. Когда Мерль в тридцатиградусный мороз шел по улицам в одной «болонье» и без шапки, старожилы Академгородка всерьез уверяли новоприбывшего:
— А он мог бы и совсем голый ходить. Кожа у него абсолютно нечувствительна к холоду. Вероятно, генетическая особенность. И обратите внимание: не стареет. Говорят, он ровесник Давиденко, вместе докторскую защищали лет двадцать назад. А посмотрите на Давиденко: пузо — два арбуза и лысина, как тонзура. Мерль же по-прежнему тридцатилетний огурчик. Ни одного седого волоска, ни морщинки.
Удивительная его моложавость даже пугала. «Вы что, секрет какой открыли или душу, как Фауст, продали?» — спрашивали у него в шутку. Он, впрочем, шуток не понимал или не хотел понимать — отмалчивался.
Когда я с ним познакомился, его уже не спрашивали: отучил. Бледный, белокурый, с римским профилем, как на древних монетах, он напоминал скорее скандинава, чем русского. Но нерусской его фамилии сопутствовало чисто русское имя и отчество — Николай Ильич.
Как-то сотрудник из отдела кадров поведал мне секрет этого интернационального «винегрета».
— Так ведь это же все липа. И Мерль, и Николай Ильич. Его на фронте подобрали контуженным не то в сорок третьем, не то в сорок четвертом году. Ни слова не мог ни по-русски, ни по-немецки. Только жестами объяснялся да бубнил: «Ник… мерль, ник… мерль». Сначала думали, что это сбитый французский летчик из эскадрильи «Нормандия — Неман». Так она в этих местах не летала. Ну и записали: фамилия Мерль, имя полностью Николай, а отчество у сержанта взяли, который его подобрал. Вместо отца, значит.
— Можно было родных разыскать.
— В войну?
— Ну, после.
— Разыскивали. Фотографии рассылали — никто не откликнулся.
— Так у него же память феноменальная.
— Смотря на что. Прошлое начисто забыл — и дома, и город. Даже языку наново переучивался. Правда, за неделю, говорят, выучился. За год среднюю и высшую школу одолел, а из клиники выписался — сразу докторская;
— Почему из клиники?
— Под наблюдением находился. Его вся столичная медицина обследовала. Не может, мол, человек с такой памятью прошлое забыть. Нельзя за два года от букваря к докторской диссертации подняться. Оказалось, что можно. Контузия изменила функции мозга, так в клинической характеристике и записано. Что-то вроде сдвига или смещения молекулярных не то ходов, не то кодов. Наизусть не помню — у Мерля спроси.
Я и спросил. Осторожно, по касательной.
— Эта аномалия у вас с детства?
Мерль ответил тоже по касательной:
— Детство мое началось в двадцать семь или тридцать лет в дивизионном полевом госпитале.
— Неужели контузия могла так повлиять на запоминающую способность мозговых клеток?